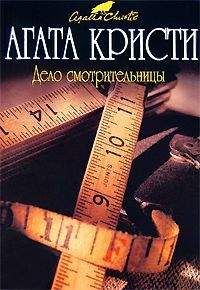Сергей Булыга - Железный волк
— Отец!
Всеслав лежал, не открывая глаз. Борис рукой к нему притронулся, ощупал лоб. А пальцы у тебя дрожат, Борис, дрожат! И это еще начало, сойдутся старшие, Давыд да Глеб, начнут спорить, один другому не уступят… Ох, слаб человек. И поделом тебе, Всеслав. От Буса как было заведено? Входили в силу сыновья и разъезжались, и варяжили, и смуты между ними не было. И Ратибор, брат твой, ушел. А сыновьям ты запретил, гордился этим, говорил, что не по–христиански отправлять свой род на смерть, вот и дождался, князь…
— Отец!.. Отец!
Открыл глаза. Борис одной рукой держал кувшин, другою тебя обнял, приподнял. Поил, вода не шла, ком в горле стоял, вода текла по бороде на грудь, на крест, вода–то заговоренная, нутро ее не принимало. Уложил тебя Борис, вытер губы, сидел, смотрел, словно виноватым себя считал, что остается здесь, а ты уходишь. И ты всегда смотрел на тех, кто обречен… Но обречен ли, Господи?! А жить, как мы живем, разве не казнь? Я отмучился уже, а вы обречены еще…
Борис опять позвал:
— Отец! — Подождал, глаза их встретились, тогда продолжил: — Градские молчат. А тут и Ростислав пришел, они и вовсе оробели. Брат не один явился, с большой дружиной. Руянцы с ним, варяги, ливы. Его уже четвертый день как упредили, собрался он, успел. А от кого был зов, не говорит, смеется. От Хво–ростеня, да?
Всеслав закрыл глаза, открыл. Борис сказал:
— Я так и думал. Он был здесь, Ростислав, на тебя смотрел, ты спал. А после… — Глаза у Бориса забегали. — А после брата кликнули. Иона сидит у Любима, рядятся они, неспокойно, потому Ростислав и поспешил туда. Глянет, придет… — И спохватился: — Нет! Ты не думай! Кроток Ростислав! Сказал, меча не обнажит. Божился… — И опять глаза забегали.
Божился Ростислав! Кем, Дедушкой?! Вот уж волк воистину! Твое отродье, князь…
Но коли даже Ростислав не сдержится, град сам виноват, только чтоб между собою не схватились, то страшный, смертный грех, отец еше живой, а сыновья — в мечи! А Любиму или даже Ионе они пригрозят.
Это ты Иону посадил, Всеслав, вместе с градскими. Тогда вы были заодин; стояли вечем у Святой Софии, вышел слепец и вынес жребий на Иону, возликовали все, хоть знали — Киев озлобится, Ефрем–митрополит, поди, и не признает. Ефрем владыкою Никифора хотел… И даже не Ефрем, Мономах да Святополк. Никифор был им люб, вот и кричали там, на Киеве: чем, мол, Никифор плох, он ваш, он менский, а кто такой Иона, сажа босоногая, чернец бродячий, пес, грех епископа всем миром выбирать, когда есть Провидение… А вы стояли на своем, вы были заодин тогда, князь и Земля, Никифора не приняли, он ушел, вслед за ним пошли дары. И Святополк не устоял, признал Иону, затаился, потом, когда Ефрем преставился, велел, чтобы поставили Никифора… теперь уже митрополитом! И клир перечить не посмел, вышло, как Святополк велел, все перед Ники–фором склонились — и Иона. Один лишь ты, Всеслав…
За то и называют тебя хищником. И отлучить грозят. Пусть себе грозят, ничего сделать не успеют — день пройдет, а завтра…
А завтра, Святополк и Мономах, и все вы, племя Переюпокино…
Отмучался Всеслав! Отбегался и отгрепшл свое, а вам, Бог даст, ох сколько вам еще!.. Вот ты, брат Мономах, все думаешь, что всех умней, всех хитрей, все с рук тебе сойдет, все можно замолить… Ан нет, не все! Вспомни: брат твой Ростислав, хоть разные матери у вас, хоть не ромеич он — половчанин, но по отцу–то родной брат: высоко он летал, гордый, свирепый, ему, поди, тоже казалось — все смогу, все мне позволено. И шел он, Ростислав, сын Всеволода, князь переяславльский, к тебе, брат Мономах, чтоб после заодин Степь жечь и полонить. А блаженный Григорий, печерский чернец, сидел на берегу, молчал, он за водой к Днепру пришел, он кроток был и, завидев рать, посторонился. Да не уберегся! Начали гриди Ростиславовы срамить его да обзывать. Чернец, устранись за души их, сказал: «Чада мои, одумайтесь, чем лаять на меня, лучше покайтесь в прегрешениях своих, ибо грядет ваш смертный час, придется вам и князю вашему казнь от воды принять!» Засмеялись гриди, не поверили, Ростислав же, осерчав, вскричал: «Попридержи язык, чернец! Я–то плавать умею, я не утону, а вот ты!..» И приказал князь Ростислав связать чернеца Григория, камень ему на грудь повесить и в Днепр бросить. И бросили, и утонул чернец. Ростислав пришел к тебе, брат Мономах, вы встали заодин, пошли на Степь — и у Триполья били вас поганые, топтали и рубили, гнали, как овец, но ты ушел, брат твой Ростислав упал с коня… и утонул, да не в Днепре, в Стугне, там, где брод, на мелкоте, если пешим идти — за голенища не набрать, а брат твой утонул, и гриди его вместе с ним. Воистину: каким судом мы судим, таким и нас осудят, какою мерой мерим мы, такой и нам отмерится. И тебе, брат Мономах, припомнится, как хана Итларя ты заманил, крест целовал на мир, а после сам велел загубить Итларя: боярин твой Ольбер стрелой его пронзил. Да, он, Итларь, немало бед содеял, так он на то и поганый, но не по–христиански — крест целовать, а после убивать. Страшись, придет твой час! А то, что я про двенадцать лет вчера кричал, так мало ли чего я еще успею прокричать, но сбудется ли все, кто знает?! Я ж не пророк, не волхв, я даже не волк, хоть и желал, молил о том, оберем к губам прижимал и целовал… Да где теперь тот оберег? Пришла Она, и я… Слаб человек, мерзок, глуп.
…Лежал Всеслав. Борис возле сидел. Умрет отец, он будет сидеть, сложив руки, смотреть умильно, кротко. Другой встал бы, позвал кого–нибудь, чтобы принесли не знаю чего, хоть травы какой, золы семи печей, да мало ли… чтоб отпустило язык, чтоб за Ионой не побежали, Иона — раб, сперва Никифору поддался, нынче Любиму, а сам говорил, мирское это все, не мое… Тьфу! И еще раз тьфу! Прости мя, Господи, но чтоб так помирать, как Всеволод, за что?!
Шаги! Идут по гриднице. Вошли. Глаза скосил, увидел: Ростислав вошел, Хворостень и этот, белобровый… Самс, брат Ростиславовой. Мрачны! Борис вскочил, схватил кувшин, прижал к груди.
Брат молча указал ему на дверь. Борис не шелохнулся. Брат снова указал. Борис перекрестился, перекрестил отца, глянул на лик — лик черен, ничего не разглядеть, — медленно пошел к двери. Дверь за ним тихо затворилась…
Но не ушел Борис, за дверью встал. Ждет, стало быть…
Ростислав подошел, сел в головах, помолчал, сказал:
— Весь грех на мне. Борис тому свидетель. И старшие придут — и не осудят… Слышишь меня?
Всеслав закрыл, открыл глаза. Страшно уже не было, слеза сама собою побежала. Сын наклонился, смахнул ее. Рука у сына твердая, шершавая, он кулаком весло перешибает, его и на Руяне привечают, и в норвегах. А
ты, Всеслав, когда мимо Руяны хаживал, то даже не смотрел в ту сторону, псалмы шептал, крепок в вере ты…