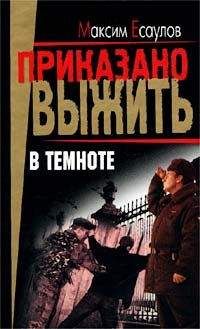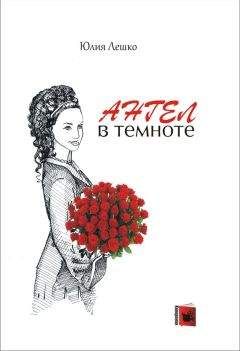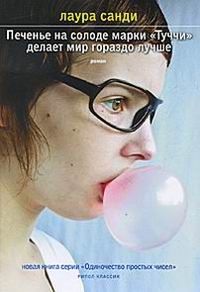Сумрачная дама - Морелли Лаура
Доминик уже провел не один час, зарисовывая его, и едва успел дорисовать все фигуры с одной из панелей. Он узнал Деву Марию и большинство апостолов, но некоторые сцены интерпретировать не смог. Он несколько недель наблюдал за тем, как вокруг алтаря вьются кураторы и реставраторы, исследуя его арматуру, изучая его и обсуждая, как безопасно упаковать его для возвращения в Польшу. Эдит сказала ему, что это одно из величайших национальных сокровищ Польши. До того, как нацисты его похитили, он всегда находился за высоким алтарем Базилики святой Марии в Кракове.
Теперь Доминик смотрел, как польский офицер медленно, будто во сне, подходит к алтарю и протягивает руку, чтобы дотронуться до одного из золоченых узоров. Его красивое лицо исказилось, в глазах заблестели слезы. Вновь повернувшись к Доминику, Эдит и директору пункта сбора, он сдавленно произнес с сильным акцентом два слова:
– Спасибо вам.
После этого он снял шляпу и упал на колени, глядя на алтарь так, будто мог весь его испить одним взглядом. На несколько долгих минут в комнате повисло почтенное молчание, какого Доминик не встречал с тех пор, как увидел в шахте Зигена, как викарий Стефани падает на колени перед реликвиями Шарлеманя.
Наконец майор Эстрейхер собрался с силами и подобрался.
Он надел шляпу и сглотнул. С красными глазами и решительно прямой спиной он подошел к ним.
– Я приехал, чтобы забрать его домой, – сказал он. – Быть избранным для выполнения этой задачи для меня огромная честь. Это одно из величайших сокровищ Польши. Это – одно из немногого, что осталось у моей страны. Спасибо, что все это время так хорошо о нем заботились.
Доминик увидел, что самообладание Эдит на секунду пошатнулось, но она быстро взяла себя в руки.
– Майор, я должна представить вам Доминика Бонелли. – Она прикоснулась к его локтю. – Он – один из наших лучших охранников. Он проделал отличную работу по обеспечению безопасности алтаря и других хранящихся тут, в Мюнхене, работ. Но, кроме того, он защищал множество произведений искусства по всей Европе. Он же помог спасти картину да Винчи с частной виллы Ганса Франка.
Взгляд Эстрейхера остановился на Доминике. Доминик почувствовал, как высокий поляк изучает его, разглядывая своими умными глазами с головы до ног.
– Неужели? – спросил он. – Тогда я прослежу, чтобы вы поехали с нами в Польшу возвращать эти работы, мистер Бонелли. Очевидно, вы – самый подходящий для этого человек. Кроме того, в поезде нам понадобится абсолютная безопасность.
Доминик улыбнулся, но сердце его упало. Дом никогда не казался так далеко.
83
Рюкзак был слишком грубой поверхностью для рисования, но Доминик научился рисовать на чем угодно – на земле, на коленях, даже на прикладе своей винтовки. Карандаш быстро бегал по бумаге, набрасывая очертания молодой женщины. Ничего не подозревающая модель стояла на железнодорожной платформе в бодрящей прохладе весеннего утра, и падающий сзади свет очерчивал линии ее фигуры четким силуэтом: плавный изгиб бедра в длинной шерстяной юбке, упавшая к подбородку прядь волос…
Эдит кусала губы. Не обращая внимания на пробиравшийся в ее шерстяное пальто холод, она сжимала в руках деревянный планшет и проверяла транспортные декларации на отправляемый обратно в Польшу груз. Товарным вагонам, казалось, конца не было, они тянулись вдаль, а Доминика все еще мутило при одном только виде этих прямоугольных силуэтов. Как бы ему ни нравилось работать на центральном пункте сбора, Мюнхен он покидал без сожаления. Хотелось надеяться, что близится его последняя остановка в Европе.
Он чуть наклонил карандаш набок, как научила его Эдит, добавляя рисунку светотень. Это была предпоследняя чистая страничка в его блокноте. В нем были десятки копий «Дамы с горностаем», которую он рано утром имел возможность поприветствовать наедине. Она – то немногое, по чему он будет скучать, думая о Европе. Правда, есть еще одна дама, по которой он будет скучать, но эти мысли он старательно отгонял.
Вместо этого он подумал о письме от Салли, которое хранил в кармане рубашки, близко к сердцу. Огромным преимуществом окончания войны стало то, что почта опять заработала. Он отослал Салли много рисунков, углем на бумаге показывая ей свою жизнь: изображения людей, зданий, а главное – произведений искусства. Аккуратно вложить рисунок в конверт, написать свой домашний адрес и отослать в Америку – это давало чувство, что после всего пережитого дом, все-таки, был реальностью. Дом больше не был только счастливым сном из прошлого, от которого Доминик пробудится в холодном, негостеприимном реальном мире, где его перебрасывают с места на место по прихоти командиров.
Он был рад уехать из Мюнхена, но внутри него все кричало о том, что он едет не в ту сторону. Не на запад – домой – а на восток. Поезд с вереницей товарных вагонов, которые должны были вернуть национальные ценности, шел в Польшу. По неаккуратному почерку и пятнам от слез на бумаге он знал, что Салли так же тоскует, как и он сам.
Доминик в последний раз взглянул на набросок Эдит. Такой он хотел ее запомнить: умной, деловитой, красивой естественной красотой. Он сложил листок и, держа его в руке, аккуратно убрал блокнот в рюкзак к остальным вещам.
Прислонившись к стене в тени железнодорожной станции, он наблюдал, как рабочие переносят из бывшей штаб-квартиры нацистов последние предметы. Они провели много дней, аккуратно запаковывая картины, скульптуры, книги и рукописи в специальные ящики и бережно перенося их в вагоны. Все это были сокровища, безжалостно отнятые у Польши нацистами, и все они теперь отправлялись домой. Доминику было жаль, что и он не может поехать домой, как они.
Прошло почти два года с тех пор, как он высадился на побережье Нормандии. Чечилия уже, должно быть, бегает. Он все пропустил: ее первые слова, первые шаги, превращение крошечного младенца в маленького человека с собственными мыслями и идеями, которые она уже умеет выражать. Доминик с болью осознавал, что никогда не слышал, как говорит его почти трехлетняя дочь. Он зажмурился, вспоминая слова из последнего письма Салли: «Вчера Чечилия спросила, когда папа приедет домой, – писала она. – Не могу дождаться, когда мне будет, что ей ответить».
Доминик поднял глаза. Ветер подхватил юбку Эдит, так что она облепила ее фигуру. Он позволил себе скользнуть взглядом по изгибу ее бедра. Пора отпустить ее, оставить здесь, у нее дома; она хочет вернуться к нормальной жизни не меньше, чем он сам. К ней на погрузочной платформе подошел Майор Эстрейхер с собственной декларацией, они сверили бумаги и кивнули друг другу. Доминик понял, что это сигнал к отправлению. Майор Эстрейхер обернулся и жестом подозвал его, а потом подошел к поезду, чтобы дать сигнал к отправлению.
Доминик огляделся, чтобы убедиться, что ни один листок не выпал из его блокнота, и пошел к поезду. Эдит стояла на погрузочной платформе с декларацией в руках. Она смотрела, как он приближается, и внезапно в ее глазах мелькнуло отчаянье. Она стояла там несчастная и одинокая.
– Не волнуйся, – сказал ей Доминик. – Чечилия будет в хороших руках. Можешь мне доверять.
– Я всегда доверяла тебе Чечилию, – ответила она. – Ты однажды уже спас ее. Я знаю, что ты отвезешь ее домой.
Снаряжение Доминика было уже в поезде. Он бросил взгляд на запад, а потом повернулся к Эдит. Несколько долгих мгновений они стояли вдвоем в неловком молчании. Не находя слов, Доминик наконец протянул ей сложенный пополам набросок, который держал в руке.
Эдит взяла его, развернула и внимательно посмотрела. Она всегда находила, что сказать о его набросках: каждая похвала уравновешивалась критикой, побуждая его совершенствоваться. Но не сегодня. Она улыбнулась ему, в уголках ее глаз стояли слезы, пойманные в мягкую темницу ее ресниц.