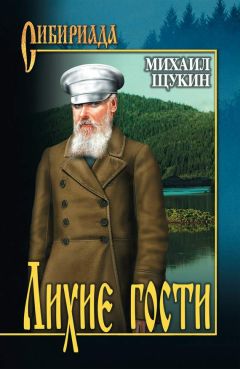Михаил Щукин - Лихие гости
…На следующий день, как и обещался, Окороков снова появился в комнатке, выпроводил сиделку с доктором Гридневым, подвинул ближе к кровати табуретку и сел, широко расставив ноги в начищенных до зеркального блеска сапогах. Коротко спросил:
– Говорить-рассказывать будешь?
Василий отрицательно помотал головой, а затем добавил:
– Не буду.
Окороков сжал огромный кулачище, поднес его к самому лицу Перегудова и пообещал:
– Если все не расскажешь, как на исповеди, я тебя зашибу. Рука у меня – тяжелая…
18
Сутки еще маялся Василий Перегудов в нелегких раздумьях. Понимал он прекрасно, что деваться ему некуда, что убежать в этот раз не удастся, а Окороков угрозу свою обязательно исполнит – глазом не моргнет, никто здесь исправнику не указ. Изувечит, нутро отобьет, а после скажет, что так и было. И до суда не дотянуть. Куда ни кинь – везде острый клин вылезает. А жить хотелось, пусть и в неволе, пусть в тюремном замке или даже на каторге. Просто – жить. Чувство это захлестывало его, а выздоравливающее тело, наливаясь силой и радостью, диктовало безмолвно и настойчиво: жить, жить, жить!
Василий приподнялся на кровати, уселся, положив под спину подушку, бросил исподлобья взгляд на Окорокова и отвернулся. Хрипло спросил:
– О чем услышать желаете?
– Да обо всем, – живо отозвался Окороков, – а для начала поведай мне: где и каким образом встретились вы с господином Белозеровым?
– Где встретились… На дороге. Хозяин, у которого на соляном промысле служил, вывез в степь и бросил, а Цезарь ехал мимо и подобрал.
– Шайка у него уже была к тому времени?
– Нет, они вдвоем тогда были, с Бориской.
– Кто таков?
– Из попов бывших, расстриженный. Фамилию не знаю, только имя – Бориска. Правая рука у Цезаря, он без совета с ним ничего не предпринимает. Больше о нем сказать не могу. Цезарь сразу предупредил: о прошлом не спрашивать и не любопытствовать.
– Не спрашивать и не любопытствовать… Значит, о Цезаре – кто он такой и откуда – ты тоже ничего не ведаешь?
– Совершенно верно.
– Ладно. О Цезаре ты не знаешь, о Бориске не знаешь. А про делишки, которые вы делали, ведаешь? Когда за кряж перебрались и кто вас провел?
– Проход через кряж Бориска знал, он и провел. Тогда нас уже двенадцать человек было. Сразу же начали строиться. Пригнали лошадей, скотину. Бориска оставался за старшего, а мы с Цезарем ездили в губернский город…
– И высматривали, кого бы облапошить. Например, сестру господина Луканина. Чья задумка была? Цезаря?
– Да, он надеялся выманить у Луканина пароходы.
– Зачем вам пароходы? Пиратский флаг повесить и плоскодонки грабить?
– Не знаю. Про пиратский флаг разговора не было, мы же не ребятишки. Пароходы нужны Цезарю для какой-то его задумки, но он об этом не говорил.
– Странная штука получается. Цезарь ничего не говорил, ни о чем не рассказывал, а вы ему подчинялись. Чем он вас так сладко ублажал?
– Обещал, что скоро свершится большое дело, ради которого он всех собрал, и все будут богатыми. Ему верят. Он умеет так сказать, что не хочешь, а поверишь.
– Сколько сейчас человек за Кедровым кряжем?
– Тридцать два, но в скором времени будет больше. Цезарь постоянно набирает охочих людей.
– И мужичка Савелия послал сюда для этих целей?
– Да.
– Выход из пещеры охраняется?
– Раньше не охранялся, теперь – не знаю.
– Зачем карты стали рисовать? Для кого они потребовались?
– Цезарь говорил, что скоро в долину придет много людей, им нужны будут карты. А чертеж мы отобрали у староверов.
– Ну а теперь расскажи, кто тебя из луканинского плена выручил и кто подстрелил?
– У Цезаря есть в городе верные люди. Кто они, я не знаю. Ночью никто не назвался, я услышал только, что стекло в окошке звякнуло, подошел – выдерга. И больше ни одного звука не слышал. А подстрелил меня мужик, у которого я лошадь увел. Выбрался за город, ночами по дороге шел, днями в лесу отсиживался. Возле деревни какой-то стал к вечеру на дорогу выбираться, смотрю: лошадь под седлом стоит, а мужик под кустом нужду справляет. Я и рискнул. Только мужичок проворный оказался. И штаны успел натянуть, и пальнул вдогонку. Я думал, что вытерплю, да сил не хватило. Как до пещеры добрался, помню, а дальше – мрак.
– Да-а, полный мрак, с мужичками-то. Савелия у меня прямо в участке отравили. Как думаешь, чьих рук дело?
– Думаю, что тех же самых, которые мне выдергу подсунули.
– Верно думаешь. Ладно, на сегодня хватит. Выздоравливай, там поглядим.
Окороков поднялся с табуретки, выпрямился во весь свой высокий рост и шагнул к дверям, но Перегудов остановил его:
– Подождите, вопрос имеется. А меня не отравят?
Окороков обернулся, внимательно посмотрел на Перегудова и негромко, утишив свой рокочущий голос, произнес:
– Постараюсь, чтобы не отравили. А еще постараюсь, чтобы ты не убежал. Мы с тобой разговоры говорить не закончили.
19
Вечером, когда в доме никого не оказалось, – отец с матерью и братья управлялись по хозяйству на улице, – Анна отняла от груди сынишку, которого нарекли по Святцам Алексеем, уложила его в люльку и воровато скользнула к печке. Наотмашь отмахнула заслонку трубы и услышала, как в печном нутре гулко ухают порывы ветра. Оперлась руками о теплый еще шесток, подняла голову, заглядывая в темный зев, украшенный сажей и беспросветно черный, тонким, тоскующим вскриком позвала:
– Данюшка!
Гудел в ответ ветер, будто шумно вздыхало над крышей огромное существо.
– Данюшка! Родной, отзовись, где ты?! Слышишь ли меня?! Подай знак!
Напряглась, прислушиваясь до звона в ушах, но доносились до ее слуха только глухие вздохи – тешился, проскакивая над крышей, резвый, упругий весенний ветер. Не дождавшись ответа, Анна снова и снова звала Данилу, рассказывала ему, какой баской [22] уродился у них Алексей, как он гулит, а еще рассказывала о том, что сама она извелась и истосковалась до края, нет ей ни дня ни ночи – темно в глазах. И вскрикивала, саму себя обрывая:
– Данюшка!
Стукнули двери в сенях, и Анна, закрыв заслонку, метнулась к люльке.
Звать Данилу в трубу научила ее Митрофановна. Говорила, что примета эта верная, только голосить надо, когда в избе никого нет. Вот Анна и выгадывала редкие минуты – голосила. Да все напрасно. Ни слуху ни духу, никакой весточки от Данилы не явилось.
С улицы, глухо топая старыми подшитыми валенками, пришел Артемий Семеныч. Кряхтел, раздеваясь и стаскивая валенки, покашливал, но когда услышал, что заплакал внук, затих. Долго сидел на лавке, опустив кудрявую голову, – думал.
Было о чем подумать. Дав слово Луканину и согласившись приглядывать за строительством постоялого двора, Артемий Семеныч обещание свое строго выполнял и сруб плотники уже подвели под стропила. Теперь требовалось пилить тес и крыть крышу. Дом получался крепкий, просторный, хоть на телеге по нему катайся.