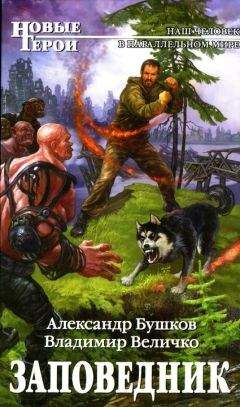Василий Тишков - Последний остров
На дороге показались Федор Ермаков и Ганс Нетке. Заметив Мишку, подошли к избушке.
— Опять замело Секлетинью? — Ермаков спрыгнул к Мишке в траншею, поздоровался с ним за руку как с равным и стал закуривать. Секлетинья услышала еще один мужской голос, перестала торкаться и ушла в избушку.
Раз в неделю, по выходным дням, приходил Федор в Нечаевку. Лейтенант брал с собой двоих-троих пленных немцев и заставлял их работать у вдов и сирот: кому дров напилить, кому снег во дворе раскидать, кому пригон от глыз почистить.
— Пусть паразиты смотрят, как тут сироты без отцов маются, — говорил Ермаков. — Я из них дурь-то фашистскую выбью. Пусть покорежат их маленько глаза вдов и солдаток.
Вот этих-то глаз и боялись пленные немцы. Боль в глазах женщин действовала сильнее газет, политинформаций и тяжелой работы на лесозаготовках. Глянет такая — и душа из тебя вон, готов бежать, прятаться, а у кого сердце подобрее, так и прощения просить за себя и за всех пришедших на эту землю.
— Что нового в деревне? — спросил Ермаков.
— На базе крышу вчера сорвало. До самой ночи перекрывали. А в четверг Тунгусов чуть не утоп. В прорубь угодил. Говорят, чудом выбрался.
Федор велел Гансу взять лопату и погреться за работой.
— Яков Макарович все хворает?
— Хворает. Только што у него гостеванил.
— Может быть, врача к нему привезти?
— А что проку? Тоскует он. Хочет весной поехать на поиски могилки Кирилл Яковлевича.
— Да, брат Михаил, от тоски еще не придумали снадобья. Анисью Князеву не видел?
— Нет. Не ходит теперь она в наш край. Мамка говорит, как бы не свихнулась баба.
— Это как? — насторожился Ермаков.
— Да вроде заговариваться стала и… — Мишка помялся, от смущения сдвинул на затылок треух. — Будто в избе своей только нагишом и ходит. Да еще икону у Пестимеи выпросила и теперь молится.
Федор нахмурился, бросил папиросу и вылез из траншеи. Постоял молча, глядя на заснеженную деревню, что-то решая про себя.
— Ганс, останешься здесь. Михаил, он тебе поможет. А я пойду к Анисье.
И он торопливо зашагал к подворью Князевой.
— Ладно, — Мишка снова взялся за лопату.
— Что такое «ладно»? — спросил Ганс. — Здесь «ладно», там «ладно». Отшень большой слово «ладно», да?
— По-вашему значит гут.
— Гут — это хорошо.
— Ну да. А вообще-то почти на все можно сказать «ладно». Ну, вот скажи что-нибудь или спроси.
Ганс задумался, подыскивая самое неподходящее к слову «ладно». И вдруг улыбнулся, довольный, что нашел.
— У меня маленький лопата.
— Ладно, бери мою, — Мишка забрал у Ганса железную лопату и отдал ему широкую деревянную. — Что надо сказать?
— Ладно, я буду работайт большой лопата.
— Молодец. Правильно соображаешь.
Вдвоем получалось сподручнее. Мишка нарезал пластами спрессованный снег и выбрасывал его из траншеи, а Ганс выгребал рыхлый снег.
Ганс давно уже познакомился с этим серьезным подростком. Молодой лесник бывал почти каждую неделю то в лагере, то в деляне на лесоповале. Немногословный, неулыбчивый, хорошо знающий свою работу, он нравился Гансу. Сначала лесник ему показался очень сердитым, но потом Ганс понял, откуда эта сердитость и преждевременная серьезность. Он уже знал от Ермакова судьбы почти всех нечаевских семей. Знал, кому в тот ужасный день пришло в деревню известие о погибших. Сразу семеро погибших, а у каждого мать, отец, жена с детишками или невеста и родственников полдеревни. Теперь горем отмечена вся деревня. И вот этот молодой лесник, потерявший отца. И высокий бородатый старик, потерявший сына и невестку. И веселая женщина Анисья, потерявшая сразу сестру и мужа. И молодой тракторист Жултай, потерявший отца. И красивая учительница Дина, потерявшая жениха. И старая женщина с трудным именем, которая сейчас находится в избушке под снегом, потерявшая сына. Потерявшие, потерявшие, потерявшие… Как много их, потерявших. Сколько нужно сил и мужества, чтобы пережить это горе. Сколько нужно времени, чтобы все это забылось, и выросло новое поколение, не знающее таких бед.
Как-то задержались у молодого лесника на его кордоне лейтенант Ермаков и Ганс Нетке. Лесник рассказал удивительную сказку про лесную птицу кукушку. Кукушка плачет, теряет слезы в траву, и в ней цветы вырастают. Слушал Ганс про птенцов, и ему вспоминался собственный сын, представлялись все дети, которых война, бросив на произвол случая, обрекла на голод и холод, оставила один на один с вселенским лихом.
Федор шел к домику Анисьи Князевой и корил себя за недогляд. Как же это получилось так, что не нашел он минутки проведать вдову бывшего разведчика и своего старого друга Виктора Князева? Когда же он просмотрел надлом Анисьи?
За осень и зиму всего-то раза два и встречал Федор Анисью. В последнее время похудела она, лицо у нее осунулось, одни глаза остались — смотреть больно, а утешать еще больнее. Да и чем утешишь… Видимо, творилось с Анисьей то же, что и со многими в деревне…
Дверь оказалась запертой изнутри. Это Федору сразу не понравилось. Он с силой постучал, но никто не отозвался, тогда Федор вышиб дверь плечом. В кухоньке было холодно и пахло остывшей золой. Маленькое оконце покрылось толстым слоем куржачной бахромы и почти не пропускало дневного света.
— Анисья Павловна, ты дома? — встревоженно позвал хозяйку Ермаков.
В горнице что-то громыхнуло. Послышался сдавленный стон.
Федор кинулся в дверь и на мгновение замер у порога — не ожидал, что увидит такое…
Среди комнаты лежала Анисья в белой ночной рубашке с обрывком веревки на шее. Второй обрывок покачивался у потолка на матице.
Отшвырнув ногой табуретку, Федор подбежал к Анисье, приподнял ее за плечи, встряхнул.
— Анисья, Анисья, ты чего это удумала, а? Сдурела баба?!
Безумный взгляд ее стал медленно проясняться. Наконец она узнала Ермакова.
— Федор Кузьмич? Ты? О Господи! Ну зачем ты… меня из петли-то вытащил?
Она медленно поднялась и снова упала, начала биться в истерике, вскрикивая:
— Не хочу жить, не хочу… Надоело все мне, надоело! Не могу никого видеть… Все равно удавлюсь, утоплюсь… Наложу на себя рученьки…
— Да ты что, Анисья, опомнись?!
Ермаков так испугался за нее, что сразу-то и растерялся, не знал, что в этих случаях надо делать. Он пытался поднять Анисью, как-то успокоить, но та вырывалась, всхлипывала без слез, сухими и опять помутневшими глазами озиралась по углам, не видя Ермакова, и все причитала:
— Сиротинушка я горемычная, нет мне житья одинехонькой… Уйди, отпусти меня, все равно порешу свою душеньку…