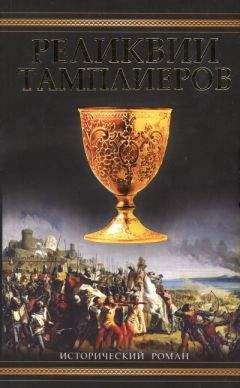Олег Гончаров - Боярин
– Прости, что отвлекаю тебя от важных дел, господин, – смиренно склонив голову, обратился ромей ко мне.
– Да уж. Дела и вправду важные, – усмехнулся я и только тут заметил, что клобука на голове у ромея нет. – Ты послушник?
– Ты прав, господин, – ответил он. – Но отец игумен обещал удостоить меня благословения на подвиг во имя Господа нашего.
«Не велик подвиг ничего не делать, а только с утра до поздней ночи Бога славить», – подумал я, но вслух спросил: – Как зовут тебя?
– Никодим. Я привратник монастырский.
– И чего же нужно тебе, Никодим?
– Там, – махнул он рукой в сторону ворот, – женщина какая-то в обитель просится. Говорит, что кого-нибудь из послов скифских повидать хочет.
– Уж не Феофано ли опять домогается? – вспомнил я безумную девку и поморщился от брезгливости.
– Что? – не понял послушник.
– Кто такая?
– Бродяжка какая-то, – сказал он. – Грязная, оборванная… мне ее прогнать?
– Погоди, – остановил я его. – Посмотреть на нее хочу.
Подошли мы к воротам, Никодим окошко в калитке отворил, я заглянул. Вижу – правда, замарашка. Волосы от пыли серые, спутаны и сосульками грязными свисают, исхудавшее тело едва рваниной прикрыто, ноги в кровь о камни дорожные сбиты – и в чем только душа держится. А в глазах столько боли и тоски, что у меня сердце защемило.
– Что тебе нужно, женщина? – спросил я ее.
– Ты рус? – вопросом на вопрос она мне ответила.
– Древлянин, – сказал я, а потом сообразил: для ромеев что древлянин, что полянин, что варяг – все едино. – Рус, – кивнул.
– Из купцов?
– Нет. Боярин я. Толмач княгини Ольги.
– Мне на пристани гребцы с ладей сказали, что в монастыре купцы живут.
– Да, – согласился я. – Здесь и купцы наши на постое.
– А Стояна-купца знаешь?
– Конечно, знаю.
– Слово ему передать сможешь, боярин?
– Смогу, – кивнул я, – говори.
– Скажи Стояну, что Марина у него прощения просит.
– Кто?!
– Марина. Он знает, – поклонилась она до земли воротам монастырским, повернулась и прочь побрела.
А меня словно молнией обожгло. Вспомнил я глаза эти.
– Марина! – крикнул я вслед замарашке. – Погоди, Марина! Никодим, – обернулся я к привратнику, – калитку отопри.
– Сейчас, господин, – послушник запоры потянул.
Лязгнуло железо по скобам, открылась дверца, я наружу выскочил.
– Марина! – бросился за женщиной вслед.
Догнал.
За плечики худенькие схватил.
К себе повернул.
Точно.
Она.
– Марина! Ты не признала меня? Это же я! Добрын! Гребцом со Стояном в Булгар ходил. Помнишь, как мордва на Оке нам вешку ложную поставила, а мы еще на мель сели?
– Добрын?
Вгляделась она в меня. Узнала. Улыбнулась устало.
– Добрыня…
Глаза у нее закатились, заваливаться начала, едва на руки подхватить успел. Легкая она, как пушинка. Худющая – кожа да кости. Я ее покрепче к груди прижал и обратно к монастырю побежал.
– Никодим! Воды давай!
– Так ведь… – замялся он. – Мне же от ворот отлучаться нельзя.
– Я за тебя постерегу. А ты давай… воды неси. Видишь, худо ей совсем.
– Кто же это такая? – спросил привратник.
– Жена купца нашего. Ты поторопись.
– Что ж он жену-то до такого довел? Прости, Господи…
– Хватит языком молоть, – разозлился я. – Воду неси!
– Ага, – закивал Никодим.
Пока привратник за водой бегал, я Марину все в чувство привести старался. Осторожно на землю ее уложил, ушные раковины ей растер, кисти рук и ступни, под нос ей пальцем надавил, как меня когда-то Белорев учил. Застонала Марина и глаза открыла.
– Стоян… – прошептала.
– Тише, Маринушка, – я ей. – Теперь все хорошо будет.
А тут и Никодим вернулся. Попила она водички студеной, на меня взглянула.
– Прости меня, Добрыня… вот упала, – сказала. – Слабая стала…
– Это ничего, это пройдет скоро.
– Мне бы хлебушка… три дня не ела…
– Сразу хлеба нельзя, горло поцарапаешь. Давай-ка я тебя к себе отнесу… спасибо тебе, Никодим, – сказал я вконец растерявшемуся привратнику. – Ты добрый человек, а таких боги любят.
– Помогай вам Господь, – сказал послушник и нас с Мариной перекрестил.
Я ее в келью отнес, на лежак свой пристроил. Потом Никифора растолкал, он на нас спросонья вылупился и никак понять не может, что за девку я с собой приволок.
– Что ж ты, Добрыня? – спрашивает. – Или о жене забыл?
– Дурак ты парень, – я ему в ответ. – Лучше давай бегом Стояна отыщи, да поживей.
– А на кой он тебе?
– На спрос, – говорю, – а кто спросит, тому в нос. Иди, коли посылаю.
– Ага, – покосился он на Марину и как был босиком и в исподнем, так и за дверь выскочил.
– Погоди, – прошептала Марина. – Как же я такая перед ним…
– Не переживай. Давай-ка я тебе лицо вытру.
Вынул я из скрыни утирку чистую, смочил ее водой, что мы с Никифором в кувшине на ночь припасали, осторожно пыль и грязь с лица ее убрал.
– Я потом Малушу, сестру мою, позову, – приговаривал, чтоб она переживать перестала. – Она тебя и напоит, и накормит, и в мыльню сводит. У нее нарядов всяческих много, а лохмотья мы твои спалим.
– Ох, Добрыня, – вздохнула она тяжко. – Зря ты меня сюда… Я же только прощения у него хотела просить…
– Вот Стоян сейчас сюда придет, так и попросишь. Как же ты тут оказалась-то?
– Так ведь Константинополь мне родина. Или не знал?
– Слышал, но запамятовал.
– Я тоже из купеческого рода. Отец караваны в Мараканду водил. Я подросла, так с ним напросилась… а на обратном пути степняки нас встретили. Отца убили, товар пограбили, а меня – в Булгар на торжище. Там Стоян меня и выкупил. А я… я… видишь, как обернулось все, – и слезы покатились по ее щекам.
– Ты силы береги, – шепнул я Марине. – Не надо плакать.
– Как же не надо, – ответила она. – Ведь…
– Знаю я.
Помолчала она, с силами собралась, а потом проговорила тихо:
– Мы с Просолом боялись, что муж за нами вдогонку кинется… я же полюбила его. Понимаешь? И он меня любил. Вот и решили, что от Руси подале нам спокойней будет.
– Где же он теперь? – спросил я.
Зря, наверное, но слово не воробей…
– Нет его больше, – ответила она и опять заплакала. – И я могла бы изгибнуть, но Господь меня на муку на свете этом оставил. За грех мой наказал.
– Разве любить – это грех?
– Так ведь я от мужа сбежала… – всхлипнула она. – А Стоян… он хороший… добрый… ласковый, а я…
И что тут сказать можно? Не вправе я был ее судить, да и никто на свете белом такого права не имеет.
– Чего звал, Добрын? – Распахнулась дверь, и в келью Стоян вошел.
Увидел он Марину и остолбенел. Постоял мгновение, а потом на колени перед ней упал.