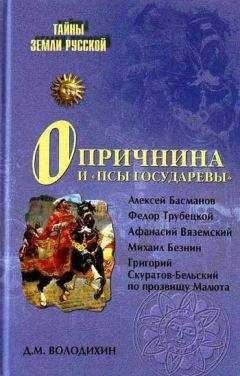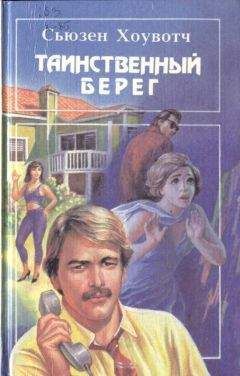Алексей Шкваров - Слуги Государевы
Власть великую имел князь-кесарь. И не только от доверия царского, а еще от того, что приказом Преображенским заведовал. Страшными делами приказ занимался. Одна изба Съезжая чего стоила. Нехорошее место. Пытошное. Сколь людей загублено там, запытано насмерть. А казнено сколько? Смертям предавали лютым, изощренным. Голову срубить, аль повесить — то дело плевое. И конец для человека легкий. Хрясть топором — и все. А вот на кол посадить, да медленно, чтоб под тяжестью своей человек сам себя казнил, разрывая все внутренности, иль за ребро, на крюк железный подвесить, пусть висит, повялится, покуда не сдохнет, — тут Ромодановский выдумщик был. Жестокости неимоверной человек. Одним словом, Рюриковичей потомок. От одного из предков своих — Иоанна Васильевича Грозного совсем недалеко ушел. Детей малых именем его пугали. Да что там дети, всяк боялся боярина свирепого.
А вот царя молодого и сам Ромодановский остерегался. Горяч был царь Петр Алексеевич. Не угодишь чем, в запале и сам мог голову оттяпать. Вспыльчив. Вот и сидел боярин дородный, подбородок острый рукой зажав, взгляд тяжелый в пол вперил. Думал, как доложить царю, что вчера заместо плахи повесили многих. Не справились палачи. Совсем из сил выбились. Головы-то рубить, не капусту шинковать. Приказал тогда князь-кесарь солдатам-преображенцам вздернуть оставшихся еще в живых стрельцов. По-быстрому. То нарушение государева указа было. Приказал царь всю площадь Красную кровью залить. Чтоб название соответствовало. Чтоб вся Москва содрогнулась и крепко запомнила. Вешать в другой день должны были. Ан вон как вышло. Ослушание оно чревато было гневом царским. Вспомнил тогда Ромодановский, как боярин Шеин царя ослушался и казнил раньше, чем велено было. При всех избил. Шпагу рвал из ножен. Заколоть хотел. Насилу жив остался боярин. Хорошо Меньшиков вмешался. Успокоил царя. Вот и думал Ромодановский, морщил лоб покатый, как пред царем повиниться. Вчера-то боязно стало. Хмелен был сильно царь. Буянить стал бы.
От дум тяжких боярина голос царский оторвал:
— Что не весел Федор Юрьевич? — Петр был настроен благодушно. — Не всю еще крамолу мы с тобой вывели? — рукой махнул вставшему боярину. — сиди, сиди, князь-кесарь, сам знаю, что не всю. Но выведем! Ручаюсь. — Уселся рядом, кваса налил себе, выпил.
— Ну с чем пожаловал, боярин мой верный?
— Повиниться хотел, Петр Алексеевич. — начал осторожно Ромодановский.
— Так винись. — царя не оставляло хорошее настроение.
— Стрельцов вчера не всех казнили на плахе, как ты повелевал. Повесили частью. — и замолчал, выжидая.
— Что с того? Казнили ведь? — Петр думал о чем-то другом.
— Казнили. Всех до единого. — Затряс головой Ромодановский.
— Ну и ладно. Жаль их. — Царь локтем на стол оперся, подбородок на ладонь водрузил. — Свои же, дурни. Православные. От темноты своей бунтуют. Переломим. Но извести придется. С Головиным вот советоваться буду, с Лефортом, как поступать далее следует. Школы надобны начальные, народ наш из тьмы выводить. Науки прививать, что из Греции судьбиной времен выгнаны были, по Европам рассеялись, а в отечество наше не проникли. Нерадением предков наших. Ладно, князь-кесарь, — повернулся к Ромодановскому, — что в приказе Преображенском нового?
— Да особого интересного нет, государь. — плечами широкими пожал боярин, — Стрельцов покуда вылавливаем остатных.
— А окромя того?
— Окромя? — задумался Ромодановский. Вспомнил, — А, донос поступил от полковника Ваньки Канищева из Азова.
— На кого? — быстро спросил царь.
— На воеводу тамошнего. Прозоровского. Дескать, при гостях говорил слова про тебя, государь непристойные, казнит мол сам всех и руками изволит выстегивать, как ему. Государю угодно.
— Что с того, — не удивился Петр. — Правду молвил Прозоровский, что царю руки марать приходиться. А сам-то воевода он справный. По походам азовским помню. Оставь, не трогай его. А доносчика кнутом прикажи попотчевать. Проведал, что не люблю боярство спесивое, токмо Прозоровский не из них. Счеты свести хочет. Кнутом его, кнутом. Еще? — князь-кесарь подумал малость и продолжил:
— Девку одну посадскую взяли. Евдокию Часовникову. Та болтала, что которого-де дня великий государь и стольник князь Ромодановский — усмехнулся боярин, — крови изопьют, того-де дня, в те часы они веселы, а которого дни крови не изопьют и того дни им и хлеб не есца.
— Девку кнутом бить, язык длинный урезать дабы не болтала лишнего, и в монастырь сослать!
— И вот еще… — замялся князь-кесарь.
— Ну, говоришь уж.
— Ты давеча, государь, про жену свою, царицу Евдокию, повелел в монастырь отправить.
— Отправляй, раз повелел. — Петр недовольно наморщился. — Надоела мне. Темная она. С одними попами, да бабами богомольными толкует. Мне другая царица надобна. Чтоб не стыдно было с Европой просвещенной общаться. Чтоб наряды иноземные носила, танцы знала. А то, напялит на себя сарафан, яко рясу монашескую и торчит часами пред иконами. В покоях одни бабки странницы, да юродивые толкутся. Тьфу! — сплюнул в сердцах, — сколь раз уж вышибал. В монастырь ее!
— А патриарх? — осторожненько вставил Ромодановский.
— Сам говорить буду с владыкой. Давно уж собираюсь.
— Тогда вроде б все, государь. — поднялся князь-кесарь из-за стола.
— Ну и ступай себе с Богом. — отпустил его царь. — Я сей час к Патрику с Францем поеду, а опосля с Головиным потолковать надобно. Алексашка! — крикнул денщика.
— Здесь я, Петр Лексеевич! — сбегал с лестницы Меньшиков.
— Куда запропастился?
— Да в светелке смотрел, не забыл ли что! — виновато.
— Поехали к Гордону. — Царь в дверях уже был.
* * *К Евдокии в тот же день пришли. Добровольно постриг принять она отказалась. Тогда взяли царицу под белые рученьки и запихали в возок крытый. Долго везли ссыльную Евдокию. Наконец, полозья скрипнули в последний раз, и кибитка черная остановилась. Вывели Евдокию на свет Божий. Стояла она перед воротами древними обители монастырской. Три монашки встречали. Все в черном, как сажа, одеянии. Средняя, игуменья — по осанке горделивой догадалась царица. Поклонилась ей:
— Куда ж привезли меня, матушка?
— Под Суздаль, сестра Елена, под Суздаль. В монастырь Покровский. — поклонилась в ответ игуменья.
— Уж и имя мне другое дали. — усмехнулась горько Евдокия. И пошла внутрь ограды монастырской… Захлопнулись ворота крепкие за царицей. Солдаты в караул встали. На долгие двадцать лет. Обречена была царица опальная на заточение вечное, на скуфейку черную. Но не старалась найти здесь смирение Елена, монашка новоиспеченная, как Петр хотел. Против мужа своего ополчилась. Возненавидела. И за то, что сына лишил, и за то, что Русь старую попрал. Переписку тайную вела. С царевичем Алексеем, сыном своим, с теми, кому дела петровские поперек горла встали. А помимо этого, в келье монашеской сидючи, и счастье нежданное встретила. Полюбилась царица бывшая с капитаном Степаном Глебовым, что в Суздаль приезжал за рекрутами. Жаркая и страстная любовь та была ночами темными монастырскими. Какие письма писала Глебову несчастная женщина!