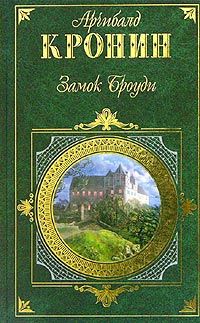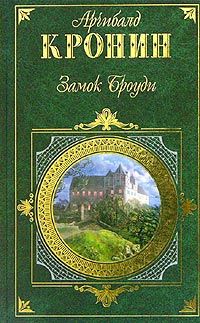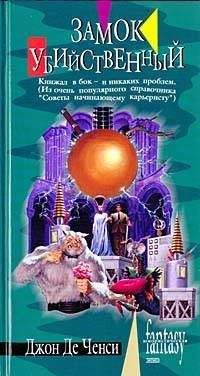Морис Дрюон - Железный король
– И подумать только, что я сам велел отстроить заново эту башню! – гневно пробормотал Великий магистр, ударив кулаком по стене.
Но тут же он с криком отдернул руку, так как от удара воскресла жестокая боль в правой кисти – раздробленный большой палец представлял собой бесформенный кусок незаживающего мяса. Да есть ли в его теле хоть одно место, не превратившееся в рану, не ставшее вместилищем боли? Кровь застаивалась в старческих, набрякших венах, и после пытки «испанским сапогом» он страдал от жесточайших судорог в икрах. Его ноги пропустили тогда между двух досок, и всякий раз, когда «пытошники» постукивали по доскам деревянным молотком, в мясо врезались дубовые шипы, а Гийом де Ногарэ, хранитель печати, задавал ему вопросы и требовал признания. Какого признания? Молэ лишился чувств.
Это истерзанное, изломанное тело доконали грязь, сырость, скудная пища.
А недавно он подвергся самой страшной из всех применявшихся к нему дотоле пыток – его пытали на дыбе. К правой ноге привязали груз в сто восемьдесят фунтов и с помощью веревки, перекинутой через блок, вздернули его, старика, к потолку. Снова и снова звучал зловещий голос Гийома де Ногарэ: «Признайтесь же, мессир...» И так как Молэ упорно отрицал всякую вину, его бессчетное число раз подтягивали к потолку, и с каждым разом все быстрее, все резче. Ему показалось, что кости его выходят из суставов, мышцы рвутся, тело, не выдержав напряжения, распадается на части, и он завопил, что признается, да, признается в любых преступлениях, во всех преступлениях мира. Да, тамплиеры предавались содомскому греху; да, для вступления в орден требовалось плюнуть на Святое распятие; да, они поклонялись идолу с кошачьей головой; да, они занимались магией, колдовством, чтили дьявола; да, они растратили доверенные им сокровища; да, они замышляли заговор против папы и короля... В чем он бишь признался еще?
Жак де Молэ с удивлением думал о том, как он смог пережить все это. Несомненно, лишь потому, что истязатели действовали с расчетом, и пытки никогда не доходили до того предела, за которым должна была последовать смерть, и еще потому, что организм престарелого рыцаря, закаленного в боях и походах, оказался куда более живучим, чем сам он мог предположить.
Узник упал на колени, обратив взор к бледному лучу, пробивавшемуся сквозь оконце.
– Господи, владыко живота моего, – произнес он, – почему ты наделил большею силой плоть мою, нежели дух мой? Был ли я достоин управлять орденом? Ты допустил меня до малодушества; не дай же мне, господи, впасть в безумие. Дольше терпеть нет у меня силы.
Целых семь лет сидел он на цепи; только для допросов выводили его из узилища, а сколько натерпелся он от судей и теологов, от их угроз и принуждений. Неудивительно, что он боялся утратить рассудок. Нередко Великий магистр терял счет дням. Желая хоть как-то скрасить свое существование, он пытался приручить двух крыс, являвшихся каждую ночь, чтобы попировать черствой коркой хлеба. От слез он переходил к гневу, от приступов пламенной веры к необузданным богохульствам, от оцепенения к бешенству.
– Пусть они сдохнут... пусть сдохнут... – твердил он.
Кто? Климент, Гийом, Филипп... Папа, хранитель печати и король. Они умрут. Молэ не знал, какая им уготована кончина, но твердо верил, что их ждут неслыханно страшные страдания во искупление свершенных ими злодейств. И он без устали твердил эти три ненавистных имени.
Не подымаясь с колен, задрав бороду к светлому пятну оконца, Великий магистр бормотал:
– Благодарю тебя, господи, что ты не отнял от меня ненависти. Только силой ненависти я еще держусь на этой земле.
С трудом приподнявшись с колен, он добрел до каменной скамьи, высеченной в стене и служившей ему одновременно и ложем, и единственным сиденьем.
Разве мог он когда-либо даже вообразить, что дойдет до такого унижения? Мыслью он беспрестанно уносился ко дням детства, ко дням юности, к тому, что было пятьдесят лет назад, когда он спустился с отрогов родных Юрских гор в поисках великих приключений.
В ту пору все младшие отпрыски знатных родов мечтали поскорее надеть длинный белый плащ с черным крестом – традиционное облачение рыцарей-тамплиеров. Уже от самого слова «тамплиер» веяло духом дальних странствий и подвигов, оно вызывало в воображении корабли, идущие на Восток с гордо раздутыми парусами, страны, где вечно сини небеса, коней, мчащих всадников в атаку через пески пустыни, все сокровища Аравии, богатый выкуп за пленников, отбитые у врага города, отданные на поток и разграбление, крепости, к которым от морского берега ведут гигантские лестницы. Говорили даже, что у тамплиеров есть свои тайные гавани, откуда они отплывают в неведомые земли...
И свершилась мечта Жака де Молэ: одетый в роскошный плащ, складки которого ниспадали до золотых шпор, он горделиво шагал по далеким городам...
Он достиг высших ступеней иерархии ордена, таких, которых никогда и не надеялся достичь, получил все титулы и наконец по выбору братьев тамплиеров занял высший пост Великого магистра Франции и заморских стран, имел под своим началом пятнадцать тысяч рыцарей.
И все кончилось этим склепом, этой грязью, этими лишениями. Редко на чью долю выпадала такая неслыханная удача и на смену ей приходило столь глубокое унижение.
Звеном цепи Жак де Молэ стал чертить на сырой стене какие-то линии, долженствующие изображать план крепости, как вдруг в коридоре, ведущем в его темницу, послышались тяжелые шаги и звон оружия.
Снова тоска сжала его сердце, но на сей раз он знал, откуда она, почему овладела им.
Массивная дверь заскрипела, открылась, и за спиной тюремщика Молэ увидел четырех лучников в коротких кожаных камзолах и с пиками в руке. В нетопленом коридоре от их дыхания поднималось легкое облачко пара.
– Мы за вами, мессир, – сказал командир отряда лучников.
Молэ молча поднялся со скамьи.
Тюремщик подошел к нему и несколькими сильными ударами молотка и зубила отбил заклепку, приковывавшую цепь к железным кольцам весом в четыре фунта, обхватывавшим щиколотки узника.
На иссохшие плечи Молэ накинул широкий плащ, свой знаменитый плащ, превратившийся в жалкую вылинявшую тряпку; украшавший его черный крест висел лохмотьями.
Затем он тронулся в путь. В осанке этого немощного старца, который, шатаясь, с трудом переступая закованными в железо ногами, подымался по лестнице башни, еще чувствовался военачальник, отбивший в последний раз Иерусалим у неверных.
«Господи, дай мне силы, – шептал он про себя, – дай мне хоть немного силы». И чтобы вернуть себе эту желанную силу, он твердил имена трех заклятых своих врагов: Климент, Гийом, Филипп...