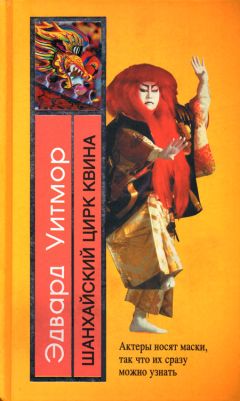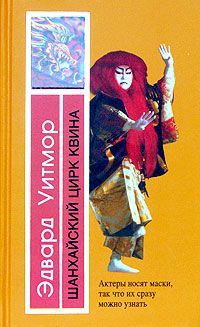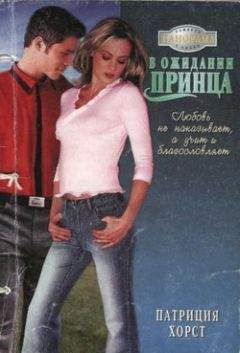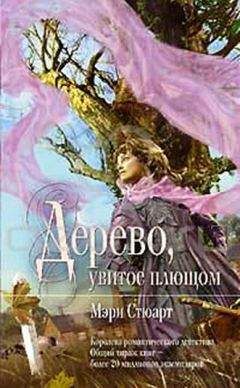Эдвард Уитмор - Шанхайский цирк Квина
Странное безостановочное путешествие? Не он ли тот человек, что в тринадцатом веке отправился с запада ко двору Кубла-хана?
Не знаю. Я знаю только, что в день, когда удивительные странствия Аджара подошли к концу, японские войска перешли мост Марко Поло под Пекином и ввергли в войну весь Китай.
* * *Квин вылил остатки виски в стакан отца Ламеро. Руки иезуита слегка подрагивали, негнущимися пальцами он застегивал одежду не на ту сторону, но выпитый алкоголь, по-видимому, лишь оживил в нем прежний блеск памяти, в свое время позволивший ему целиком запомнить «Сумму теологии» и поддерживавший его способность к тайному духовному видению, столь сильную и неколебимую, что лишь однажды он опустил взор — под стеклянным глазом спящего, и даже тогда спустя час немигающего безмолвия.
Отец Ламеро потягивал виски.
А другой? спросил Квин. Тот, по имени рабби Лотман?
Да, прошептал священник, нас было трое друзей, все мы жили в Камакуре перед войной, а теперь осталось только двое. Оказалось, что на закате своих дней Лотман, как и Аджар, тоже ощутил на себе последствия основания Третьего Интернационала.
В начале века он был молод и интересовался только стрельбой из лука и полотнами импрессионистов. Ему принадлежали обширные владения Кикути, и потому он мог удовлетворить самые капризные свои желания, даже регулярно ездить до Первой мировой войны в Париж, чтобы пополнить свою коллекцию живописи. В тысяча девятьсот девятнадцатом, уже в зрелых летах, он снова отправился в Европу.
Его попутчиком в Транссибирском экспрессе был некто Катаяма Сен. Он ехал в Москву, чтобы участвовать там в основании Коминтерна. Барон Кикути был слишком утонченным эстетом, чтобы интересоваться политикой, но фанатичный пыл соотечественника за время долгого путешествия произвел на него такое глубокое впечатление, что, приехав в Париж, он телеграфировал, чтобы его коллекцию продали, а вырученные деньги по предварительной договоренности послали представителю Коминтерна в Париже. По адресу в Париже, который ему указали, находилась лавка сапожника. Агентом, конечно, оказался Аджар. Они сразу понравились друг другу.
Обычно барон, возвращаясь домой из Европы, на месяц-другой останавливался в Египте. Будучи эстетом, он наслаждался и созерцанием совершенной симметрии пирамид, и гармоничными очертаниями Храма в Карнаке. Но на этот раз он решил задержаться не в Каире, а в Иерусалиме. Там он обозревал то, что обычно осматривают паломники: Крестный путь, Сад святой Анны, Храм гроба Господня, Стену плача. И осознал, что не только задержался надолго на Ближнем Востоке, дольше чем обычно, но еще и постепенно проникается духом иудаизма.
Неизбежное всегда кажется неизбежным. Барон Кикути принял иудаизм и избрал для себя духовное поприще раввина. Тогда его титул и земельные владения в Японии автоматически перешли к его младшему брату-близнецу, моложе его на восемь минут, в то время полковнику армии, впоследствии члену Генерального штаба.
Вскоре Лотман вернулся из Палестины в Японию. Тому есть две противоречащие друг другу или, возможно, дополняющие друг друга причины, обе не вполне достоверные. По одной версии, Лотмана выслали из Палестины за то, что он развернул активную сионистскую деятельность. По другой, в то время он заболел, стал страдать от неумеренного выделения жидкости и сообразил, что в Камакуре получит лучшую медицинскую помощь, чем в Иерусалиме.
Неважно, как было на самом деле, — в начале двадцатых годов бывший барон Кикути, а ныне рабби Лотман поселяется в уголке своего бывшего поместья, которое теперь принадлежит его брату.
По природе своей он был мягким и кротким человеком. Если Аджар к старости неуклонно становился более чувственным, то Лотман — все более утонченным. Его любимым пророком был Илья, и он часто говорил, что слышал в своем саду в Камакуре тот же спокойный, тихий голос, что и пророк Илья на горе Хорев.
Так что его смерть не была несчастным случаем, как может показаться с первого взгляда.
Весной сорок пятого года американцы сбрасывали на Токио зажигательные бомбы. Лотман, как обычно, переводил в саду Талмуд, когда услышал, что на Токио начинается налет. Но американцы никогда не бомбили Камакуру, так что бояться было нечего. Лотман продолжал писать под облачным весенним небом.
В полдень из-за туч неожиданно показалось солнце, необычно яркое для весеннего дня. То ли один из американских пилотов на секунду ослеп от яркого, насыщенного цвета весенней земли, неожиданно открывшегося взору, то ли от внезапного тепла какое-то воздушное течение изменило свой ход. В любом случае, несколько бомб упали в двадцати милях от Токио, точно на сад Лотмана, немедленно поглотив его со всеми переводами в вихре огня.
Пламя было таким сильным, что полыхало всего несколько секунд. Дом и сад не пострадали. Единственное, что напоминало о взрыве, — это клочок черной выжженной земли.
После смерти Аджара нас осталось двое. Кроме Лотмана с его сладкой музыкой, было некому утешать меня. А теперь?
А теперь явилась «колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо».[48]
* * *Отец Ламеро побарабанил пальцами по пустому стакану. Он поднял бутылку и увидел, что она тоже опустела. Он повернулся к окну, и вокруг его глаз собрались морщины.
Второй бутылки у нас сегодня не будет, прошептал он, да и второго шанса в жизни тоже. Еще один день актерства прошел, исчезли маски Но, и музыка, и стихи, и все, что я знал, исчезли вместе со всем, что я изведал до сих пор. Однажды я спросил себя, почему Илия называет себя Лотманом? Почему дракон называет себя Аджаром? Почему чайную чашку поворачивают трижды, прежде чем отпить глоток? Почему кото звучит лишь раз в тысячу лет?
Когда все меня покинули и я остался один, я мучительно обдумывал эти вопросы и многие другие. В одиночестве я тщился разгадать тайны, скрывающие в себе смысл жизненных испытаний. Разгадывал долго и тяжело, но теперь поднимается ветер. Скоро придет тайфун и сметет все тайны, все загадки, все невзгоды и страдания. Они как обломки кораблекрушения на берегу, любой может найти их, когда шторм уляжется. Собери их, если захочешь, и разожги на берегу костер в ночи. Смотри, как дым исчезает во тьме, и ломай голову над тем, звезды ли ты видишь вверху или что-то другое. Прислушайся к гулу моря, прислушайся, как волны трижды перекатываются, поворачивая ход тысячелетий, прислушайся и раствори свое сознание в медитации.
Отец Ламеро грустно опустил голову. Он сжал ручки кресла, набитые конским волосом.