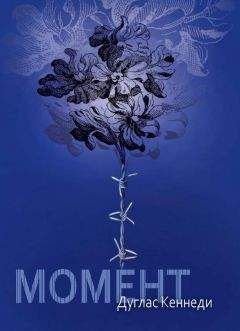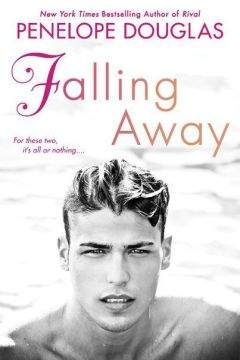Герой Рима (ЛП) - Джексон Дуглас
Агриппа огляделся вокруг и увидел скудость их тесного окружения. — Я не вижу ничего более ценного, — сказал он, нахмурившись.
— Что может быть для Клавдия более ценным, чем ты, жрец? — Валерий медленно вынул меч из ножен, где отполированное лезвие блестело в отблесках огня, и вытянул его, пока острие не оказалось в дюйме от горла Агриппы. Он повысил голос, чтобы его услышали все в зале. — Я даю тебе выбор. Мы можем пожертвовать нашей едой и водой, или мы можем принести в жертву жреца здесь, который, без сомнения, добровольно пойдет к своему богу, если это обеспечит выживание его собратьев. Еда или жрец?
— Жрец, — позвал усталый хор с пола. Валерий заметил, что самый громкий зов исходил от молодого Фабия, авгура.
— Ну так что?
Долгое время Агриппа смотрел на меч, как на змею, готовую ударить. — Может быть, жертва уже не нужна, — сказал он сдавленным голосом и вернулся на свое место на ногах, которые были чуть более шаткими, чем прежде.
Едва жрец ушел, как Валерий услышал, как его зовут из дальнего конца зала. Петроний. Разве у него не было достаточно забот без вмешательства квестора? — Продолжай проверять дверь, — приказал он легионеру на страже. — При первых признаках обугливания используйте две амфоры, чтобы заглушить его.
Он пробирался сквозь распростертые тела, гадая, чего хочет Петроний. Их положение здесь представляло неотъемлемую трудность, и он ожидал, что она возникнет раньше. Как старший офицер он командовал обороной Колонии, а значит и храма. Но Петроний был старшим гражданским лицом, и его положение давало ему определенные полномочия даже в этой ситуации. Как квестор он имел право требовать контроля над запасами пищи и воды. Правда, он на удивление мало сопротивлялся, когда Валерий настоял на том, чтобы смочить дверь водой, но тем не менее этот призыв – а это было именно так – несомненно, означал неприятности.
Петроний выглядел более измученным, чем обычно, но устроился максимально комфортно в своих стесненных обстоятельствах. В то время как всех остальных в комнате от его соседа отделяли дюймы, квестор создал небольшой аванпост, используя сундуки с официальными записями Колонии, которые давали ему и его спутнице не только место для передвижения, но и относительную роскошь чего-то, на чем можно было сидеть. При ближайшем рассмотрении девушка оказалась даже моложе, чем предполагал Валерий, вероятно, где-то в подростковом возрасте, с навязчивыми темными глазами и телом на грани женственности. Он понял, что узнал ее. Это была девушка с похорон Лукулла.
Обглоданный конец куриной кости торчал из-под края плаща Петрония, что свидетельствовало не только о степени подготовки, но и о том, что «записи» или, по крайней мере, некоторые из них, не все, были не тем, чем казались поначалу.
— Чем я могу быть вам полезен, квестор? — осторожно спросил он.
Ответ стал неожиданностью. — Ну же, мой мальчик, я думаю, мы могли бы быть немного менее формальными. Я подумал, что вы, возможно, захотите где-нибудь немного отдохнуть. — Петроний указал на один из ящиков.
У Валерия было искушение отклонить предложение, но оно казалось достаточно искренним, и отказаться было бы дурным тоном. Устроившись поудобнее, он сказал — Теперь скажи мне истинную причину, по которой ты хотел меня видеть.
Петроний улыбнулся. — Я недооценил тебя, Валерий. Я полагал, что ты еще один из тех надменных молодых аристократов, которые просто используют легион как ступеньку к более великим свершениям. — Он поднял руку. — Не обижайся; в конце концов, я сам был одним из них. Но я видел, как ты и твои люди сражались сегодня с невероятными силами, и ты настоящий солдат; воин и лидер. Это был замечательный поступок, который дорого обошелся нашей мятежной королеве. Сомневаюсь, что она успокоится, пока не выжжет тебя из твоего логова.
— Девятый...
— Вот почему я позвал тебя, — прервал его Петроний. — Бумаги в этих сундуках могут оказаться для нее очень ценными. Источники разведки и списки друзей Рима, некоторые из которых не являются тем, во что верят бритты. Они будут в большой опасности, если ящики уцелеют, а нас схватят. Конечно, если Девятый легион действительно идет нам на помощь, мне не о чем беспокоиться. — В последнем утверждении был вопрос, но Валерий посмотрел на девушку и замялся.
— У меня нет секретов от Мены, — заверил его квестор. — Она – причина, по которой я здесь. — Он увидел удивленный взгляд Валерия и устало улыбнулся. — Я познакомился с ее матерью за четыре месяца до того, как должен был вернуться в Рим после вторжения. Она была тринованткой; фактически, сестра Лукулла. Когда мы узнали, что она беременна, я, к своему удивлению, обнаружил, что у меня есть более важный долг.
Снова это слово «долг». Валерий разрывался между восхищением и презрением к Петронию. Трудно было поверить, что за холодным и расчетливым бюрократом стоит любовник, бросивший карьеру ради того, чтобы стать отцом туземной девушки. Но это был тот самый Петроний, который лишил Фалько оружия, в котором тот так отчаянно нуждался.
— Уничтожь их, — тихо сказал он. — Уничтожь бумаги.
На мгновение лицо Петрония утратило учтивую уверенность. — Твой легионер?
— Если Мессор сбежал, то он позаботится о том, чтобы история последней битвы Колонии стала известна, но помимо этого… Дверь может продержаться до утра, а может и нет. Даже если он доберется до Девятого, я сомневаюсь, что они смогут пробиться к нам вовремя.
Петроний грустно улыбнулся дочери и взял ее за руку. — Спасибо, — сказал он, но Валерий не был уверен, для кого предназначались эти слова. Он встал и вернулся на свое место у двери, где база теперь явно светилась.
— Воды, — приказал он резче, чем собирался. Его признание Петронию было первым разом, когда он позволил себе признать, что всякая надежда потеряна.
Должно быть, было около полуночи, когда огонь за дверью потушили. Валерий увидел напряженные бледные лица, когда все в зале ждали первого удара тарана и молились, чтобы выдержанный дуб снова выстоял. Но удара не последовало. Вместо этого через несколько мгновений они услышали более резкий стук тяжелого молота, сопровождаемый криком, от которого застыла кровь каждого мужчины, женщины и ребенка в храме Клавдия. Когда Валерий приложил ухо к двери, он услышал приглушенный смех и хриплое мучительное дыхание. Молот ударил снова, за ним последовал крик, и ему пришлось сделать шаг назад, потому что он боялся, что агония измученной души по ту сторону дуба лишит его мужества.
Мессор. Бедный храбрый Морская игла, который вынес удушающий ад гипокауста только для того, чтобы его схватили, когда он, должно быть, почти выбрался.
Второй крик сменился детской мольбой испытанного сверх всякой меры мужчины. Мольбы заставили Валерия вернуться к двери, но он не мог придумать ни слова утешения, ничего, что могло бы преодолеть барьер боли для молодого солдата, которого он послал на смерть. Что он мог сказать? Что он хотел занять его место? Что он хотел, чтобы именно он молился за свою мать и освободился от агонии? Он прислонился головой к твердому дереву и, в свою очередь, молился о легкой смерти для Мессора. Когда дым начал подниматься в комнату и свечение под дверью возобновилось, он понял вне всякого сомнения, что боги больше не существуют, ни для него, ни для Мессора, ни для кого-либо в этом храме ложного бога. Именно тогда они поняли, что первые крики на самом деле вовсе не были криками.
В последующие часы стены камеры, казалось, сомкнулись, и условия стали еще более невыносимыми. Сам воздух, густой от дыма и смрада жареного мяса, невольного дерьма, многодневного пота и неповторимого, прогорклого запаха человеческого страха резал горло, как будто это было что-то твердое. Уборная уже давно переполнилась, и те, кто погрузился глубже всего в летаргию, сопровождающую потерянную надежду, довольствовались тем, что лежали в своих собственных отбросах, а их дети рыдали рядом с ними. Уверенность в смерти по-разному влияла на людей. Многие просто поддались отчаянию, но на других, в том числе и на Валерия, это оказало странное освобождающее действие. Обычные заботы больше не имели значения. Когда он думал о Риме, своем отце и двоюродном брате, который унаследует все, что должно было принадлежать ему, это было абстрактно, как если бы он был третьей стороной, наблюдающей за всей этой бессмысленной драмой. Даже Мейв превратилась в смутное прекрасное воспоминание; своего рода утешительное присутствие, которое благополучно проводило бы его до другой стороны.