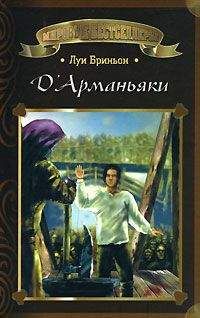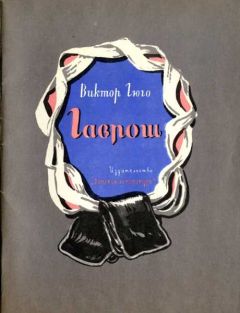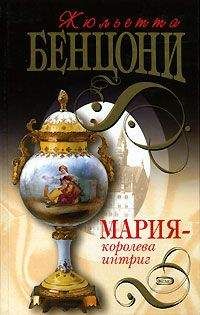Иван Дроздов - Морской дьявол
А волна продолжала катиться дальше, к черте горизонта. И, казалось, она не становилась меньше, а вздымалась еще выше. И гул от нее поднимался к небу. И чудилось пассажирам вертолета: вот та самая библейская Гога и Магога, явившаяся миру в наказание за грехи его. Не один только Персидский залив взбунтовался, но в этот же час и момент встали на дыбы все моря и океаны, реки и озера — и бросились они на землю, на мир людской.
Король покачал головой. Проговорил на своем родном языке междометие, которое часто можно услышать и на нашем, русском:
— Ну и ну!..
И потом, склоняясь к Тимофею:
— Спасибо, русский друг, сердечное спасибо тебе, сын славянский, от всего арабского мира. Я бы хотел, очень бы хотел, чтобы об этой штуке кроме нас с тобой никто не знал.
Волна продолжала свой бег к горизонту, а вертолет, сделав круг над опустевшим островом, взял курс на материк, где люди еще не знали, что в руках у них появилось оружие, способное охладить пыл и ярость любого врага.
И они уже были далеко от острова, когда впереди по курсу, на севере, там где была Россия, вдруг рассеялись черные тучи и с небес грянули лучи солнца, и то ли воображению так представилось, то ли наяву случилась картина — из воды стала подниматься исполинская фигура человека. «Царь–освободитель, — негромко проговорил Курицын. — Наш царь, русский!» А люди, сидевшие в салоне, стали повторять: «Да, да — это над вашей страной вспыхнула такая яркая заря. Мы тоже видим человека, над его головой жаром горит золотая корона. И он поднимается все выше. Он как Бог, несет людям счастье и освобождение».
Август 2001
О СЕБЕ
Родился в 1924 году в деревне Слепцовка, позже переименованной в Ананьено, которая теперь по причине «неперспективности» снесена с лица пензенской земли, и на месте ее летом шумят хлеба, а зимой лежит снег, и лишь гул пролетающего самолета изредка тревожит белую тишину. Временами приезжаю в родную Пензу, обхожу ее старые улицы и новые районы, а затем еду в Тарханы. Там поклонюсь праху Лермонтова и пешком, а кое–где на попутных, направляюсь в Беково — и дальше, к родимым местам. Они с возрастом тянут к себе все сильнее. Часами стою посредине поля, и картины детства, образы милых сердцу людей встают передо мной как живые. Особенно дорог мне образ отца Владимира Ивановича, вечно занятого в поле, в хлеву, в огороде и никогда не позволявшего себе обидеть хоть пальцем малыша. Стоит в памяти картина: я сижу с братьями и сестренками на полатях, мама наша, Екатерина Михайловна, возится за перегородкой у печки, а отец, старшие братья Дмитрий, Сергей и Федор и кто–то еще из гостей пьют брагу и поют любимую в семье песню «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, горишь ты вся в огне». Отец поет сильно, красиво, — вдруг оборвет мелодию на полуслове и долго, недвижно сидит в углу под образами святых, преимущественно героев русской истории, думая, очевидно, о своей трудной жизни, о том, как прокормить и довести до ума детей.
Наведаюсь и в станицу Качалинскую на Дону, где я некоторое время жил с мамой, сестрой Марией и братом Евгением. Тут у нас домик, тут мы бываем иногда весной, а в другой раз и летом, и осенью.
Восьми лет я с братом Федором и сестрой Анной подался в Сталинград на Тракторный завод. Там в 1933 голодном году остался один и очутился на улице среди таких же, как я, бездомных, никому не нужных ребят.
В колодцах городских коммуникаций, в подвалах, на вокзалах, пристанях и на улице прошли четыре года моей жизни, которые считаю не только тяжкими и страшными по причине вечного голода и холода, но и самыми плодотворными с точки зрения познания жизни и воспитания характера, выработки воли и тех нравственных устоев, которые затем во всей последующей жизни поддерживали меня на том необходимом уровне, где сохраняется самоуважение и способность смотреть младенцу в глаза, любоваться природой и быть в постоянной рабочей форме. Я теперь без чувства неприязни и обиды вспоминаю уркачей и воров, которые были старше меня, сильнее и давали крепкую зуботычину, а подчас избивали жестоко за малейшее проявление двоедушия.
Отринутый миром бездомный люд, через который мне привелось пройти в детском возрасте, остается в моей памяти немым призывом к неустанному труду, к вечной борьбе со всем, что лишает человека жизни и достоинства.
Временами наезжал в Качалинскую к матери, но, рано овдовевшая, не имевшая ни кола, ни двора, она едва кормила двух малолетних детей, и я снова подавался в город.
Один вор, опекавший меня, где–то украл много книг и заставлял меня их продавать. Сначала я разглядывал картинки, потом прочитал страницу, другую — и так, мало–помалу, затянули меня фантазии великих мечтателей, бурный водоворот страстей человеческих.
В 1937 году я пришел на Тракторный завод и, назвавшись четырнадцатилетним, попросился на работу. При этом, кажется, сказал: «Если не хотите, чтобы я воровал». Работники отдела кадров, очевидно, не хотели этого и послали меня учеником токаря в заводское депо.
В 1940 году уехал в Грозный в авиашколу. Образования у меня никакого не было, в школе–то я почти не учился, а надо было сдать экзамены по русскому и математике. Диктант я написал на «хорошо» — помогла начитанность, а математику за меня сдал армянин Будагов в обмен на диктант по русскому, который я написал за него. А уж потом вечерами меня по математике натаскивали два моих новых друга курсанты Пивень и Кондратенко. За три–четыре месяца вечерних занятий я так овладел математикой, что стал хорошо усваивать сложнейшие науки: аэронавигацию, аэродинамику, устройство двигателей и всю летную программу. За отличное окончание авиашколы получил серебряный знак с изображением самолета, и запись об этом в курсантской книжке храню как самую дорогую реликвию.
Но воевать в авиации не пришлось: сделал всего лишь несколько боевых вылетов на разведчике Р-5, а потом попал в резерв, из него в артиллерию и закончил войну командиром фронтовой зенитной батареи в Будапеште.
В Москве на Поклонной горе в главном музее Великой Отечественной войны в Литераторском зале установлен мой бронзовый бюст работы скульптора профессора Александра Васильевича Соловьева.
Но если относиться к этому серьезно и не брать в расчет эмоций сиюминутных, — значки, звания, награды и даже бюсты — это все–таки детские игры взрослых дядей, и есть в этом что–то искусственное. Писатель создает свои произведения для читателя, а он, читатель, как известно, наград не раздает, в лучшем случае напишет автору письмо. Да и замечено: чем самобытнее художник, тем больше у него врагов и хулителей. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Некрасов, а в наше время — Булгаков, Маяковский, Есенин, Бажов… Не было у них ни званий, ни наград. Так уж лучше с ними делить судьбу, чем быть в обществе тех, кого владыки мира забросали медалями.