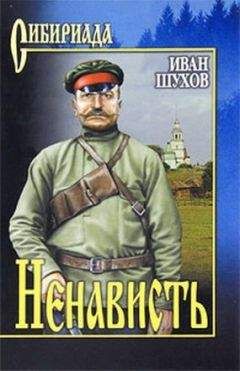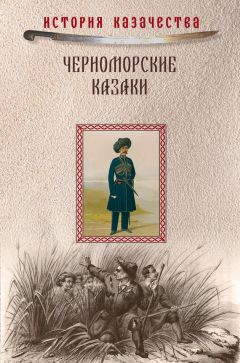Горькая линия - Шухов Иван
Свежи и призрачны бывают летние ночи на Горькой линии. Почему-то всегда пахнет в такую пору гарью степей и сухим конским пометом. Вокруг — мертвая тишина. Чуть внятно лепечут в ночи, как сквозь сон, трепетные листья серебристого тополя. Золотой, похожий на дутую казахскую серьгу месяц висит над хутором. Тишина. Скрипнут где-то ворота калитки, коротко крикнет ночная птица. Прозвенит, замирая вдали, колокольчик, мягко и нежно рассыплется ласковый девичий смех. И снова так становится тихо, что можно, кажется, даже расслышать, как растет трава…
В такие ночи нередко просиживала Даша в полном одиночестве у окна с вечера до рассвета. Дрожа от предутренней прохлады, от непривычного напряжения нервов, зрения и слуха, чутко прислушивалась она к каждому шороху и звуку и ждала — не уловит ли ухом далекий дробный и частый копытный стук иноходца или шорох легкой походки, знакомых, поспешных, запомнившихся навеки шагов…
Но тихо было в ночи. И только изредка слышались чужие шорохи и звуки, чужой конский топот, чужие шаги. Чужой возникал где-то за углом робкий шепот. Чужие горячие, вкрадчивые речи и вздохи доносились до Даши из лунной полумглы. Чужое счастье проходило мимо нее в эти ночи, как проходят стороной над желтой от зноя степью косые дожди…
Иногда она вздувала огонь и разбрасывала у себя на коленях старые карты. Падала дама пик — злодейство. Поздний разговор с бубновым королем. Коварство какого-то трефового валета. Рядом с девяткой пик — семерка: к слезам. Затем неприятное свидание в казенном доме с червями. Очень неприятное это соседство — пиковая восьмерка с королем червей! Нет, не было пути к ее сердцу и к дому для Федора. Это, впрочем, давным-давно было ясно Даше и без трефового валета, и без позднего разговора с бубновым королем…
Одна отрада была теперь у Даши — Настя Бушуева. Подружившись после своей помолвки с Федором с его сестрой — тоже такой же невестой на выданье,— Даша души не чаяла в новой своей подружке. Случилось так, что судьба обеих девушек была примерно одинаковой. Настя, как и Даша, готовилась стать к покрову под венец с Сашкой Ханаевым. Но война и мобилизация спутали карты. И Настя, проводив своего суженого на фронт, осталась тоже на положении покинутой невесты. Все это сближало девушек, хоть по характеру и не совсем похожи они были друг на друга. Но разница в характерах — как это часто бывает в жизни — как раз и влекла их друг к другу.
Даша стала бывать по годовым праздникам в доме Бушуевых, загащиваясь иногда у них по неделе. По сердцу пришлась она и бушуевским старикам своим общительным нравом, учтивостью и повадками. Егор Павлович и Агафьевна принимали Дашу как невестку и всячески поддерживали в ней веру в возвращение Федора.
В отличие от Даши, Настя не очень-то унывала в разлуке со своим женихом. Нельзя было сказать, что она не любила Сашку. Но любовь ее к нему была совсем не такой, как у Даши к Федору. Даша не Любила говорить о своей душевной неурядице даже с Настей и свою глухую тоску по Федору ревниво таила в себе. Настя, наоборот, не умела ничего скрывать от своей подруги — ни дурного, ни хорошего настроения, которое, кстати сказать, менялось у нее ежечасно. Но, несмотря на все это, девушки привязались друг к другу.
Между тем видеться им удавалось редко, особенно в летнюю пору. Как и Даша, Настя тоже пропадала теперь с весны до осени в поле. Старик, растеряв последних своих сынов, не хотел допускать до развала пошатнувшееся за последние годы свое хозяйство и всеми правдами и неправдами тянулся за одностаничниками Ермаковского края, засевая каждую весну по десяти десятин яровой пшеницы. Прихватить на летнюю пору работника Егор Павлович не решался, надеясь как-нибудь выехать с грехом пополам на плечах снохи, возмужавшей дочери и подросшего старшего внучка. И старик в расчетах своих не ошибся — управлялся с пашней своей семьей, как там ни ворчала сноха и ни брыкалась дочка. Нелегко было им, конечно, целое лето в степи. Старик это понимал — не бабье дело за плугом ходить! Но деться было некуда, приходилось мириться.
Не до праздной девичьей жизни было в летнюю пору обеим подружкам, и вся надежда у них была на зимние праздники, на святки, когда на целые две недели заваливалась Даша в станицу. Золотая это была пора для девушек — святки! Яркие, как день, морозные лунные вечера. Гадания на кольцах, на картах и зеркалах. Озорные песни, пляски ряженых. Хохот бубенчиков в метельной ночи на чьей-то залетной тройке… Очутившись в такую пору в доме Бушуевых, Даша не узнавала сама себя. Рядом со своей сверстницей, шумной, беспокойной и озорной подружкой, чувствовала и она себя такой же беззаботной, озорной и счастливой, какой была в юности. Вдоволь надурачившись и нахохотавшись за день, они проводили длинные зимние вечера в гаданьях о суженых, а ночи — в бесконечных разговорах все об одном, все о том же — о своих женихах.
— Никуда они от нас не денутся — ни твой и ни мой. Оба будут наши,— убежденно твердила Настя.
— Твой что. Войне конец — и вы под венец. А вот насчет моего — бабушка надвое сказала.,.— говорила со вздохом Даша.
— Ну нет, Дашенька. Про Федю никакая бабушка надвое не скажет. Уж я-то его знаю. Твой он до гробовой доски. А вот на моего вертопраха надежда худая.
— Здравствуйте, я вас не узнала!— насмешливо откликалась Даша, поражаясь непостоянству своей подружки.— То никуда не денется — мой. А то вдруг — надежда худая. Прямо семь пятниц на дню у тебя, Наська.
— Нарвись-ка бы ты на такого варнака, как мой, у тебя бы их было все десять.
— С ума ты сошла, клеветать на парня такое?! Ведь он без ума от тебя. Сама же ты говорила.
— Мало ли што я говорю вгорячах…
— Все-таки надо же знать и меру.
— Не учи. Знаю. Нынче он, подлец, от меня без ума, а завтра от другой без памяти…
— Откуда ты это взяла? Письма-то звон какие чуть не каждый день от него получаешь — зачитаешься!
— Мало ли што можно в письмах-то наплести! Он и словесно, бывало, меня заговаривал — голова кружилась.
— Стало быть, любит, вот и заговаривал.
— Может, и так. Отрицать не стану,— неожиданно соглашалась Настя.
— А вот я от Феди и весточки не дождусь,— с горьким вздохом шептала, лежа рядом с подружкой, Даша.
— Придет время — дождешься, — уверяла Настя. Два года жду…
— Это правда. Ты терпеливая. На мой характер — ни в жизнь бы не выдержала.
— А што бы ты сделала?
— Плюнула бы и ногой растерла…
— Как тебе не стыдно.
— А што? Попробуй-ка мне Сашка не написать за месяц ни одного письма — только он меня тогда и видел!
— Опять двадцать пять. Ты ведь только што тараторила, што не в письмах дело.
— И сейчас говорю — не в письмах. А посмей-ка он перестать мне писать — поминай тогда, как меня звали.
— Што бы ты сделала?
— Што? Взамуж бы вышла.
— Это за кого же?
— А кто подвернется…
— Страм слушать, што ты говоришь.
— Не любо — не слушай.
— Да ты не сделаешь так никогда. Болтаешь только бог знает што. А коснись дела — вроде меня притихнешь.
— Ну, извиняй. Худо ты меня, Дашенька, знаешь.
— Может быть…
— Я непокорная.
— Это другой разговор.
— Отчего же другой? Тот самый.
— Не говори, ты его любишь.
— Не знаю.
— Зачем же тогда под венец собиралась?
— Речей колдовских наслушалась. Не только под венец — в огонь и в воду тогда бы за ним пошла.
— А теперь?
— Теперь бы подумала.
— Переболело?
— Вроде этого. Цену себе узнала.
— Это кто же тебе ее набил?
— Нашлись такие…
— Не знаю, зачем они тебе.
— На всякий случай… И тебе бы обзавестись не мешало. Хочешь — найду?
— Нет уж, спасибо, Настенька. С меня одного хватит.
— Вот и зря. Они там без нас небось не зевают.
— Ты хоть бы брата-то тут не пристегивала…
— А чем мой брат лучше Сашки? Все они одинаковы,— заключала Настя, и нельзя было понять — в шутку она говорила все это или серьезно.
Несмотря на все эти, часто крайне противоречивые и не совсем приятные для Даши рассуждения Насти, Даша любила подружку и невольно тянулась к ней, с удовольствием болтая и иногда даже незлобно переругиваясь с ней в минуту откровенного разговора о дорогих и близких их сердцу людях, разлуку с которыми переживали, видать, обе они нелегко, хотя Настя и не признавалась в этом.