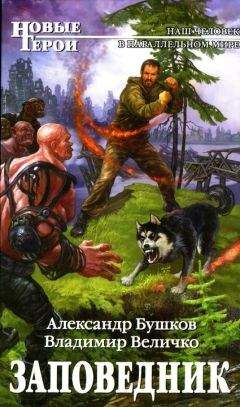Василий Тишков - Последний остров
— За бором по лугу обогнула хутор Кудряшовский, подошла было снова к Полдневому, но там ведь увалы, она весенними логами направилась к Золотову. В него и нырнула.
— Золотово сохнет. Сплошные камыши. Уж и коровы-то пить в нем не могут. Тина одна. Так, пожалуй, за зиму-то обновится Золотово, а?
— Ну. Теперь снова берега полнехоньки станут.
— А потом? Вспять-то не двинет?
— Да ты чо, дядя Парфен? По ту сторону вон какая низина, по Воробьевской дороге вечно грязюка непролазная. Ключей и ключиков там прорва. Туда речка побежит, больше ей деваться некуда, а потом до самого Тобола.
— Ага. Значит, прямо на полдень путь держит.
— Во! Из Полдневого на полдень. Давай и назовем ее Полуденкой, а? Речка Полуденка.
— Ну дак чо, ты первый нашел ее, ты и называй. Токо сообщи соседнему леснику-то, чтобы весной встречал ее. Так, мол, и так: возле нашей деревни Нечаевки родилась новая речка, имя ей дадено Полуденка. А он дальше по курсу сообщит. Так и зачнет свою жизнь наша Полуденка. Ишь как буркатит-то. Зима на носу, а ей хоть бы хны. Живучая, видать, речушка будет. Ты, Михалко, здесь под соснами лавочку по весне приспособь. Задушевное место получится. Посидит человек у начала речки и, может быть, над всей своей жизнью задумается, а?
— Дело говоришь.
— А то бежим, бежим, аж спотыкаемся, и задуматься недосуг. А иногда надо задумываться… — Парфен прищурился на огонь: «Вот что значит лесной человек, вмиг теплинку сварганил. Мне и в голову не пришло костерок зажечь. А ведь приятно — и обогреться можно, и отдохнуть от дневной беготни». — Ты вот часто ли над жизнью задумываешься, Михаил Иванович?
— Я о твоей жизни сейчас задумался.
— Вот те раз! Я ему про Фому, а он про Ерему.
— Ты же сам говорил, что по Красной площади правофланговым шел и смотрел вперед.
— Было дело. Даже Мавзолея не сумел разглядеть. Да и поземка, кажись, была.
— Вот! А теперь ты кто?
— Теперь-то? Теперь — беда прямо. Отстраненный от боевых действий как инвалид и почти калека… — Парфен потер ладонью скулу и хмыкнул. — Горластыми бабешками теперь командую. Значит, полный конфуз получается.
— Ну нет же! Нет! — начал горячиться Мишка. — Ты и теперь с правого фланга идешь. А по тебе весь колхоз марширует. Понял? И ты больше всех у нас за деревню, за колхоз и за нечаевских людей отвечаешь.
— Вон ты куда. Стало быть, с положительной стороны обо мне задумался?
— Нет. С отрицательной.
— С тобой, парень, не соскучишься… Ладно. Сам разговор затеял, давай разберемся. Так. Чем же я тебе не угодил?
— Вот скажи, сколько тебе лет?
— О-о… Много уже.
— «Много»… Ты чо, старше моего бати?
— Нет.
— А он у меня вон какой молодец. Понял?
— Ничего я, Михалко, не понял. Ты куда гнешь-то?
— Так ты же годами между мной и моим батей. Так?
— Выходит, так.
— Тогда почему не женишься?
— Здорово ночевали! — Парфен нахмурился, но не очень сердито. Посмотрел с интересом на Мишку и опустил тяжелую руку на его плечо. — Тут стратегия, друг мой Михаил Иванович. Не бог весть какая, но стратегия, моя собственная. Вот ты еще совсем молоденький юноша. А если без обиды, то и вовсе сопля зеленая. Но… Но у тебя уже стержень в жизни определился, и ты с полным понятием ведешь самостоятельную, как вовсе у взрослого мужика, жизнь. Поясню. О работе в лесу ты печешься не за страх, а за совесть и живота своего ради общества не жалеешь. К примеру, случай с браконьерами взять. Хоть и в тылу, а ты уже порохом и свинцом отмечен. Крепко линию свою гнешь. Свою линию жизни. Я часто на тебя посматриваю как на правофлангового. Чуешь? Вот и весь мой тебе сказ. И вся моя стратегия.
— Ты не хитри, дядя Парфен. И не сваливай с больной головы на здоровую. О тебе ж говорю я, что тебе жениться надо. Понял? При чем здесь твоя стратегия и моя линия жизни?
— Да ты хоть видел меня в бане-то?
— Не… Говорят мужики, что на тебе места живого нет.
— Пустое балаболят. Тело, оно завсегда живое, пока человек в работе и заботах. Ну да ладно. Може, какая переярочка и свыкнется с моим изуродованным организмом, с лица воду не пить. Да сам-то я кто? Кто я такой есть на земле, если тебя в пример себе ставлю? Вот где корень. На трех войнах побывал. И все по команде. Ложись! Встать! Вперед! В атаку! Но это там, где много нас было. А здесь? И здесь та же карусель. Парфен туда, Парфен сюда! Парфен, коров за сиську дергай! Парфен, сирот не обижай! Парфен, к черту на рога лезь, а хлебозаготовку в срок! Только тычки да зуботычины. Вот! Потому время лихое. И я пока не Тунгусов Парфен Данилович, а просто солдат Тунгусов. Но погодь, распрямлюсь да смогу повести за собой ну вот хотя бы тебя, тогда я снова себя человеком почувствую. На полную меру. Тихо, не перебивай. Я, может быть, первый раз в жизни столько много слов в один раз насобирал. Еще чуток послушай. Ты думаешь, я совсем пень бесчувственный? Ну-ну! Я к примеру. Глянется мне одна, да уж больно хороша, аж жуть берет. Однако не могу я сейчас себе позволить даже глядеть в ее сторону. Кругом беда, война на полземли расхлестнулась, у нас в деревне сплошные вдовы и сироты по домам, а я вдруг гулеванье затею? Как на меня бабешки и старики посмотрят? Ладно, сказать, может быть, и не скажут, народ у нас добрый. Но ведь у каждого сердце кровью обольется. Там мужики нечаевские насмерть бьются, которые и вовсе погибли, а тут председатель Тунгусов разлюли-малину себе устраивает. Или не так я говорю?
— Прости меня, Парфен Данилович. Я круглый оболтус. Но жениться тебе все одно надо. Это мы с дедом Яковом твердо решили промеж себя.
Парфен закрыл лицо фуражкой и расхохотался.
— Ну, парень, ты меня уморил. То речкой обрадовал, то критикой изничтожил, а в конце еще и развеселил. Вот так день выдался. Прямо жить сто лет захотелось.
Он поднялся, шагнул к речке, стал пригоршнями пить воду.
— Ах, хороша водица! Чистая, студеная, весной почему-то пахнет. Чудно! А жениться… Сперва нам с тобой, Михаил Иванович, надо дожить до полной победы, а там видно будет. Доживем до победы-то, а?
— Почему не дожить? Нам по-другому никак нельзя, Парфен Данилович. Вот и речка в нашем озерном краю объявилась, а може, еще какие события произойдут. Яков Макарович так и говорит: если невозможно докопаться до самых истоков жизни, так и конца жизни на земле не должно быть. Понял теперь, зачем я тебя сюда притащил?
— Ну… Раз захотелось мне дожить до ста лет, значит, не зря притащил. Хороший из тебя со временем комиссар получится…
Кто кому поднимал настроение, было непонятно.
Они притушили костерок и направились в Нечаевку. Тунгусов курил, размашисто вышагивая по гулкой промерзшей дороге, одобрительно поддакивал на Мишкины рассказы про его лесные хлопоты и радовался за него. И еще почему-то почувствовал тревожное и радостное беспокойство в своей душе, а вот причину своего нового чувства понять не мог. Мишка Разгонов тоже не совсем понимал свои действия и движения души.