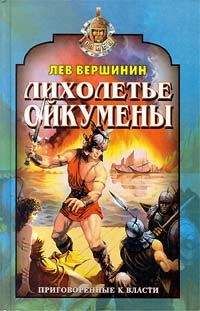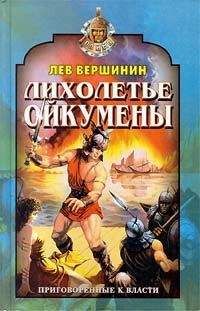Лихолетье Ойкумены - Вершинин Лев Рэмович
Ему мешает язык, ставший огромным и сухим. Больше Чистого Камня Скарваллах Ллевелента и тверже хороший срок провисевшей на солнце рыбы эмайн о'эйра…
Он не видит уже, как сужается вокруг него людское кольцо. Что ему до двуногих?! – Он следит только за Тенью, которая медлит, не тянется больше к беззащитному горлу, не вспарывает душу рдеющими в глазницах угольями… Может быть, Тень узнала его, племянника могучего риага, и устрашилась? О! Бойся, Тень, бойся! Стоит тебе причинить вред, и могучий риаг пойдет к сильным друидам, и даже к тем, что не волхвуют ни для кого, кроме ард-риага Бранноха О'Бойхха, верховного властелина настоящих людей, и они не откажут ему, имеющему заслуги перед самим ард-риагом!..
А может быть и так, что Тень смилостивилась, поняв, что он – хороший, честный, не совершивший ничего недозволенного человек?.. Да, добрая Тень? Это так?..
Варвар, приложив немалое усилие, шевелит губами и слышит свой голос, отчетливый и внятный. Тень отзывается басовитым рокотом, а откуда-то из недостижимой дали доносится ответный гул, схожий с гневным ревом огромной, взбешенной ледоходом реки…
– Ну что же ты, Господин? – спрашивает Аэроп, движением подбородка указывая на распростертого в луже крови варвара со страшной раной поперек живота. Нутро светлоглазого распахнуто настежь, словно ворота гостеприимной усадьбы, и сизо-лиловые блестящие кишки, густо окрашенные желтыми, алыми и белесыми сгустками, расползаются по траве, повествуя любопытным, что съел убийца, проснувшись нынешним утром.
Пирр знает, что надо делать.
Аэроп рассказывал об этом много раз, может быть, сто или даже больше, и рассказы его были гадки, как страшная сказка, и так притягательны. Сладкой жутью недозволенного веяло от них, и невозможно было представить, что неизбежен приход дня, когда ему, Пирру, предстоит сделать то, что совершил в свое время почти забытый отец! И мифический, словно и не бывший никогда из плоти и крови дядя, погибший далеко за морем! И сам Аэроп, да и каждый молосский мужчина! Он не верил, что сумеет, но в то же время знал, что в должный момент не дрогнет! Иначе на груди его никогда не поселится орел, такой же, как у наставника, только еще больше и увенчанный диадемой…
Пирр знал, что не отступит, когда придет этот день, вот только не думал, что он обрушится столь неожиданно.
– Ну же, царь-отец! – полупросит-полуприказывает Аэроп, и взгляд его ощутимо толкает в спину.
Пирр делает шаг вперед, к поверженному.
В глазах варвара, ставших невероятно прозрачными, словно голубизна их выцвела, плывут весенние облака. Он видит: Тень сгущается, оплетает со всех сторон. Скачком, непредставимо быстро, все вокруг делается ярким, отчетливым. И неслышным. Тень больше не Тень. Громадная птица с хищно изогнутым клювом, немножко похожая на сокола, но не более, чем похож обычный риаг на ард-риага Бранноха, топорща белый хохолок на изящно поставленной голове, садится на грудь, глубоко в плоть запустив острые когти, растопыривает необъятные крылья, и сквозь войлок тишины в слабеющий разум врывается пронзительный, непередаваемо торжествующий клекот.
А спустя еще миг птица расплывается и пропадает… И несмотря на слабость, укутавшую тело спасительной пеленой безразличия, чужак громко вскрикивает… А те, кто стоит вокруг, замечают, как вздрагивают, не сумев издать ни звука, посиневшие губы…
Мечерукий Гэз! Это же… просто мальчишка!
Пирр седлает окровавленное, трудно дышащее тело, и Аэроп властно вскидывает руку, повелевая иллирийским дружинникам удалиться. И бородачи уходят, не оглядываясь. Они догадываются, но вовсе не желают знать, что произойдет сейчас на поляне. Да и нет у них права любопытствовать. Каждое племя имеет свои обычаи, хранимые в тайне от чужих, даже если чужие – самые близкие друзья. Есть такие обряды у иллирийцев. Есть, разумеется, и у молоссов. И негоже иллирийскому глазу видеть, пусть и случайно, как молоссы исполняют древние таинства.
Кому охота иметь дело с разгневанными духами чужих предков?
– Погоди, мой царь!
Опустившись на колени, Аэроп жесткими пальцами, ломая корявые ногти, ковыряет землю, рыхля ее, прокапывая неглубокую ямку…
– Ты готов?
Пирр, крепко зажмурившись, кивает.
– Открой глаза! Именем праотца-Орла, царь-отец!
Веки распахиваются сами собой, и неведомая сила, потеснив разум, прохладной волной вливается в дрожащие руки. Глубоко вздохнув, Пирр задерживает глоток воздуха в груди, крепко сжимает обеими руками мохнатую, увенчанную козьим копытцем рукоять сизого варварского меча…
…и, стонуще выдохнув, вонзает узкое лезвие в грудь лежащего под ним человека.
Варвар обмякает мгновенно, успев ощутить напоследок нежное дуновение ветерка, коснувшегося самого донышка иссякшей души; пшеничновласая дева с голубыми глазами, суровая посланница Мечерукого Гэза, обнимает племянника, помогая встать со склизкой от крови слабенькой травки и взойти на крылатую колесницу, запряженную тремя черными гусями.
Надо спешить! Вон, далеко впереди, исчезает в синеве клин таких же колесниц, уносящих в Чертог Мечерукого славных сальдуриев, и они, оборачиваясь, зовут варвара, окликают его, подзадоривают, спрашивая: ужели ты, лучший из нас, войдешь в ворота Чертога последним?
Гони гусей побыстрее, дева!
Подбородок светлоглазого отваливается, и по некогда выбритому, а сейчас заросшему густой щетиной подбородку, скатившись со щеки, сползает крупная прозрачная слеза…
И Пирру на краткий миг грезится в прозрачных озерах пусто глядящих глаз мертвеца невероятное: распахнувшаяся в высоком поднебесье дверь и мелькнувшая за ней тень быкоподобного воина, приставившего ко лбу длинную, беспалую, похожую на узкий обоюдоострый клинок ладонь.
Небесный великан угрожающе хмурит брови в мертвой прозрачной глубине. Пирру не страшно. Напротив! Он презрительно кривит губы, а руки, словно сами по себе, вершат положенное. Мальчик легко, словно не в первый раз, вспарывает грудь врага, просовывает в еще теплое нутро ладонь, раздвигая гибкие кости ребер, и извлекает из потайных глубин человеческого тела кровавый сгусток едва заметно трепещущего, исходящего паром мяса.
Перехватив варварское сердце, Аэроп в мгновение ока разрывает его на три почти равные части, пальцами, без помощи металла, как предписано обрядом. Одну из них торопливо, словно опасаясь обжечься о не принадлежавшее себе, бросает в приготовленную ямку и закидывает ее комьями влажной земли, заравнивает, затаптывает…
– Прими от детей своих положенное тебе, мать-Земля, и поделись с праотцем-Орлом, – слышит Пирр напевный шепот наставника. – И вы отведайте от доли, принадлежащей вам по праву, царь мой и побратим Александр, и царь мой Эакид, и царь отца моего Арриба, и царь деда моего, Неоптолем, и царь прадеда моего, Алкета, и царь прапрадеда моего, златоустый Фариб. Этот дар посылает вам верный молосским обычаям Пирр, плоть от плоти вашей, кровь от крови вашей, кость от кости вашей, продолжатель вашего бытия! Я же, ничтожный Аэроп, по праву наставника, как положено от века, преломляю с вами принадлежавшее вам и беру свою долю…
По локоть измазанная бурой жижей рука бросает в рот обрывок теплой еще вражеской плоти, тяжелые челюсти мерно движутся, разжевывая долю, положенную наставнику, и в уголках заросшего сивой бородой рта вскипают розовые пузырьки переполнявшей гортань слюны.
– Ешь, царь-отец!
Пирр замешкался.
Представились вдруг изогнутые дугой брови Кинея, презрительно сжатые губы. Что скажет он, узнав? Сомнение мелькает и исчезает, словно роса под лучами солнца.
Кто-то невидимый и неощутимый требует: не медли!
И подсказывает: Киней ничего не скажет. Потому что ничего не узнает. Никогда. Он хороший. Он умный и любимый, и всегда будет таким, как бы ни сложилась жизнь.
Но…
«Но он всего лишь мудрец!» – впервые думает мальчик неполных одиннадцати лет от роду, только что ставший взрослым мужем и воином.
«И всего-навсего грек!» – презрительно кривится мужчина, только что по древнему закону выкупивший у предков диадему молосских царей.