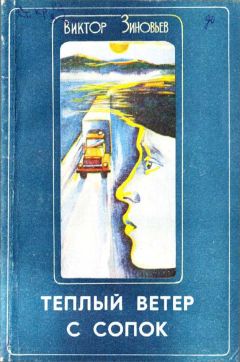Поль Феваль - Тайна Обители Спасения
– Ах, все не так просто, – произнесла госпожа Самайу, возведя глаза к небу. – Я не говорю, что ни в чем не повинна. Да, я осмелилась было помечтать вслух, но Морис не понял меня, так что по отношению к нему я чиста, как флердоранж... И когда я думаю, что вот уже больше месяца я ничего не слышала ни о нем, ни о Флоретте, я начинаю тосковать... Они дали мне адрес, но он вылетел у меня из головы, а малышка, которая, как вы знаете, благородных кровей, строго-настрого запретила мне наводить о ней справки у ее то ли маркизы, то ли герцогини. Одним словом, все, что я могла сделать, – это написать. И я написала, но мне не ответили. Может быть, пока я была на празднике, что-то произошло? С самого моего возвращения я думаю только о них... Ах! Никогда не нужно ни к кому привязываться!
– Вперед, шагом марш! – гаркнул Гонрекен. – Ладно, чтобы отвлечь вас от черных мыслей, атакуем наши будущие картины в лоб и одновременно с обоих флангов. Значит, их здесь будет восемь: четыре в углах и еще четыре посередине, – в стенных нишах. Гм... Конечно, господин Барюк умеет привлечь внимание зрителей, однако то, что он предлагает, давным-давно устарело. С этим никто не может поспорить... Что вы хотите, чтобы мы нарисовали посередине? Может, взрыв адской машины на бульваре – помните, то нашумевшее дело Нины Лассав? Пожалуйста, взгляните в книгу образцов. Посмотрите же! За просмотр денег не берем. Левой, левой! Четче шаг!
Леокадия наклонилась над альбомом. Собеседники на минуту замолчали, и благодаря этому молчанию можно было услышать слова Барюка, который по-прежнему сидел на своей стремянке почти под потолком:
– Такие дела быстро заминают, потому что в них замешаны богачи и знать. Однако факт остается фактом: на улице Анжу-Сент-Оноре отравили судебного следователя – словно какую-нибудь крысу, а задержали на месте преступления двоих: молодого человека и девицу.
II
ВЫБОР ПРИМАНКИ
Госпожа Самайу не обращала ни малейшего внимания на то, что говорилось вокруг; ее доброе полное лицо, обычно выражающее радость, теперь было печальным. – Да, это должно всем понравиться, – сказала она, разглядывая первую страницу альбома с образцами, где находился набросок, изображающий взрыв адской машины на бульваре Тампль.
Это событие произошло совсем недавно, и воспоминание о деле Нины Лассав было еще свежо в памяти парижан.
– Да, наверняка понравится, даю голову на отсечение, – ответил Гонрекен-Вояка. – Эта картинка заряжена пулями, которые бьют без промаха. Потому и стоит она недешево.
Вдова тяжело вздохнула.
– Деньги – это не главное, – грустно проговорила она. – Мне много пришлось заплатить городу: во-первых, за землю, во-вторых, за право выстроить на ней балаган. Раньше, когда у меня были Морис и Флоретта, вся эта живопись мне не требовалась. Люди из хорошего общества назначали друг другу свидания в моем цирке, неважно, где: в Париже или в пригороде. И вовсе не из-за картины, которая висела у меня еще со времен покойного господина Самайу. Ее купили по случаю за сорок франков. Да, нечего и говорить: привязываться к людям – такая глупость! – Мадам Самайу тяжело вздохнула и, опустив голову, прошептала: – Я ведь не просила их дневать и ночевать в моем балагане, вовсе нет... я все толкую об этих детях... просто время от времени заходить на минутку, в память о старой дружбе...
Мамаша Лео замолчала и две крупные слезы скатились по ее пухленьким щекам.
– Кругом, шагом марш! Ать-два, ать-два! – внезапно завопил заскучавший Гонрекен. – Много народу служило в армии, но мало кто выглядит как настоящий военный. Долой тоску! – заорал он еще громче, а потом продолжил: – Если вы не боитесь расходов, то я сделаю для вас такие вещи, каких никогда не видывали в нашей столице.
– Именно этого я и хочу, – прошептала укротительница, отвернувшись, чтобы смахнуть слезу. – Дела у меня пошли хорошо, ничего не скажешь, но, как видно, лучше мне разориться. Знаете что? Я хочу делать глупости, я хочу быть сумасбродкой, понятно? Мне нужно заглушить тоску, – объяснила она свою неожиданную расточительность. – Для меня не будет ничего слишком прекрасного, я собираюсь стать лучшей из лучших!
– Тогда нам недостаточно ранее задуманного! – оживился Вояка-Гонрекен. – Это слишком невыразительно! На картине маловато народу, я добавлю сюда полицию, генералов и еще кое-что: нарисую на переднем плане такую штуку, от которой невозможно будет глаз отвести. Знаете, какая блестящая мысль пришла мне в голову? На свою беду, в том самом месте оказался мальчуган, и взрыв разорвал его пополам. И вот родители, все в слезах, собирают его по кусочкам: папаша поднимает ноги, мамаша – все остальное. Их окружает толпа...
– Черт возьми! – проговорила мадам Самайу, которую, казалось, увлек монолог художника. – Ничего не скажешь, славная идея! Жаль только, что у меня не будет адской машины, чтобы показать ее публике.
– Нельзя иметь все сразу, – ответил Гонрекен. – Левой, правой... Давайте посмотрим следующий рисунок!
С этими словами он перевернул страницу.
– Эй, подойди к занавесу, – крикнул в этот момент Барюк, – и добавь в ведро желтой краски. Там, справа, золото получается слишком красным. Слышишь, Пелюш?
– Говорят, перед смертью следователь успел сделать завещание, – сказал один из тех живописцев, что слушали рассказ Барюка.
Другой добавил:
– Лейтенант из Африки пытался покончить с собой.
– А девушка сошла с ума, – отозвался третий.
– Заткните-ка ваши глотки! – приказал Вояка-Гонрекен. – Невозможно говорить: себя самого не слышно.
– О чем это вы? – спросила Коломба, которая стояла чуть поодаль. – Неужто об этой же истории? Да ее обсуждают на всех парижских кухнях. И когда уже только люди успокоятся? – возмущалась она.
Возможно, Коломбе и ответили, но она этого не услышала, ибо тут ее маленькая сестренка вновь приняла свою излюбленную позу и приложила к губам трубу. Спустя мгновение полились ужасающе громкие звуки...
В наступившей потом тишине оглушительно прозвучал ласковый голос терпеливого Эшалота:
– Саладен, обормот, не будь таким злюкой, это ведь для твоего же блага. Невозможно воспитать ребенка, не причиняя ему некоторых неудобств.
Саладен же, любимый наследник блестящего Симилора и скромного Эшалота, верещал, как поросенок. И его можно было понять, потому что даже со стороны процесс «воспитания» выглядел устрашающе. Эшалот как раз превращал младенца в чудовище. Делал он это следующим образом. Сначала он как-то хитро приклеил к его вискам пленку из бычьих кишок, выкрасил ее в телесный цвет и приклеил к ней волоски, а затем с помощью полого пера надул эту пленку, так что голова мальчугана приобрела кошмарные размеры.