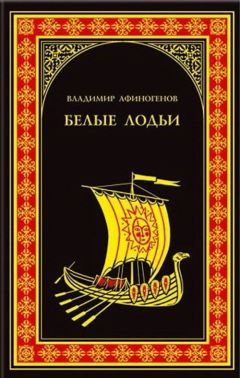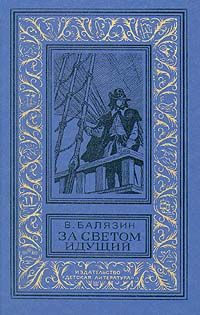Владимир Афиногенов - Белые лодьи
Игнатий выглянул в окно и увидел, как по монастырскому двору ковылял с уздечкой в руке отец Зевксидама, и ему показалось, что бывший воин катафракты улыбался. Значит, доволен собой.
«Ишь, паразиты, пригрелись возле меня! Сначала сын, потом отец, улыбается, а дел ни на грош», — несправедливо подумал Игнатий. И он крикнул, чтобы тот зашел в келью. Что-то действительно с раннего утра порадовало старого конюха, он и появился в дверях с улыбкой на устах. И тогда Игнатий, схватив распятие, треснул им по лбу верного своего раба. Отец Зевксидама упал, а Игнатий, теряя над собой власть, начал избивать его ногами… Истратив все силы, бывший патриарх сел прямо на пол, глядя безумными глазами на безжизненно распростертое тело, затем позвал слуг. Те отнесли старика к лекарю, у которого он через два дня скончался…
После этого Игнатий приутих, редко выходил из кельи и усердно молился. Но наступал день, когда его тянуло к морю…
Вот и сейчас вид лазурного моря и желтого песчаного берега с накатывающимися на него волнами привел бывшего патриарха в хорошее душевное состояние, и Игнатий даже попытался улыбнуться, когда шедший впереди служка споткнулся и, смешно задрав ноги, упал в песок.
Ветер, ласково дующий в сторону острова, играл нежными листьями апельсиновых деревьев, шевелил редкие седые волосы на непокрытой патриаршей камилавкой голове Игнатия. Но, отправляя церковную службу, он всегда надевал ее, считая, что имеет на это полное право…
Имел ли он на это полное право? Наверное, да. Потому что так считали не только его сторонники, но и те, кто участвовал в его низложении. К примеру, тот же Василий-македонянин. Усевшись на императорский трон, он на остров Теребинф послал своего протасикрита с пышной свитой царедворцев, которые и привезли Игнатия, как драгоценную вазу, во дворец, где и увенчали его седую и в общем-то мудрую голову патриаршей короной…
Ударил большой колокол в церкви Сорока мучеников, потом бухнул здоровенный монастырский, и затем на всех колокольнях зазвонили на разные голоса, — Игнатий и сопровождающие его слуги перекрестились: что за перезвон? К обедне рано, значит, по какому-то случаю… Поспешили на монастырский двор; там, одетый по-походному — в кожаную куртку и такие же штаны, — пил, окруженный монахами, из деревянного ковша воду гонец из Милета.
— Скоро должен появиться флот Кондомита, разгромленный в Сицилии агарянами, — сказал Игнатию настоятель, — велено, — он кивнул на гонца, — звонить, когда корабли пойдут мимо.
И настоятель заспешил по своим делам, так неожиданно возникшим с появлением гонца, которого доставили сюда на малой галере. Если бы он не спешил, то от его взора не ускользнуло бы необычное возбуждение свергнутого патриарха, вызванное этим сообщением: глаза его радостно блестели, щеки пылали, губы кривились в довольной усмешке… Сбывались горькие предупреждения его и бывшей Августы: вот оно, наказание Господне, за напраслины, возводимые на их головы, за богохульства императора и его беспутного дяди.
— Идут, идут! — крикнули с берега, и Игнатий со своими слугами снова поспешил туда.
По четыре в ряд плыли под квадратными парусами около ста двадцати хеландий, остальные, без мачт, потерянных в сражении, шли чуть приотстав и в стороне от главного строя. Когда корабли приблизились, можно было разглядеть, что и борта у, казалось бы, резвых парусников тоже все искромсаны, с зияющими дырами и выбитыми досками, не говоря уже о тех восьмидесяти, которые на воде держались чудом. Правда, у каждой хеландии весла оставались целы, и неудивительно, потому что в дальние плавания их всегда брали с запасом — иначе не могло и быть, в шторм они легко ломались, а тем более — в бою…
Хоть и радовался свергнутый патриарх разгрому императорского флота, но в глубине души ему было жаль простых моряков и солдат, тысячами оставшихся лежать на дне Ионического моря. И, подняв кверху правую руку, он начал творить молитву во спасение их душ, хотя знал — всемилостивый Бог прощает все грехи погибшим в бою воинам: «Слава! Слава вам, братья, отдавшие жизнь за Родину! А кара небесная пусть падет на головы тех, кто привел вас к гибели!..»
Игнатий подвергал проклятию ненавистных ему царедворцев, изгнавших его из Константинополя, и снова чувствовал внутри оцепенение и холод.
Источали неизбывную печаль медные звуки колоколов, творили со слезами на глазах молитвы монахи, упав на колени, стоял на крутом морском берегу во всем черном настоятель монастыря и золотым крестом, от которого при ярком солнце исходили лучи, осенял проплывающие мимо острова корабли.
С похолодевшим сердцем, со вновь возникшей в душе яростью Игнатий вернулся в келью и повелел подать стило и пергамент. Быстро-быстро стал писать. Сложил написанное вчетверо и соединил шнурком, расплавил на горящей свече воск, полил его на концы шнурка и приложил свою печать. Потом позвал одного из слуг:
— Вот тебе послания. Их нужно тайно и срочно доставить. Одно — настоятелю Студийского монастыря, другое — во дворец к протасикриту. И ступай… А я прилягу отдохнуть, устал. Болит голова… И пусть не входит никто, пока не позову.
Он, совершенно разбитый, лег на топчан и вытянул ноги. Подошвы горели, как будто прошагал с десяток милей, в голове гудело — это, видимо, кровь давила на мозг, хотелось забыться, ни о чем не думать и ничего не помнить… Игнатий закрыл глаза, и сон мгновенно слетел на него, но спал он тревожно и мало; а проснувшись, ощутил в голове легкость и ясность мысли.
«Что надо делать в моем положении? — подумал свергнутый патриарх. — Не радоваться и яриться, а действовать! Пусть вершится то, что задумано мною с того момента, когда я потерял патриаршую корону… Не должны напрасно пропасть наши с Ктесием усилия и наши дела, касаемые Херсонеса, города, близкого к хазарам и русам… Теперь протасикрит снарядит в Хазарию тайного гонца с моим посланием к моему родственнику… Если философа с его верным псом Леонтием не убили, значит, они наверняка уже там. И то, что велю Ктесию, да исполнится! Я — не отец, со своим положением не смирюсь никогда… Видит Бог мои страдания и душевные муки и простит меня… Что я предлагаю в посланиях, на первый взгляд направлено против моей паствы, но зато потом народ Византии получит освобождение от беспутного тирана и его прихлебателей, которые ввергли страну в разврат, бесчестие и безденежье. Государственная казна пуста давно, накопленное Феодорой и ее мужем богатство бессовестно разграблено… А тут еще разгром флота, без которого нет могучей империи, какую создали Великий Константин и Юстиниан… И если я желаю своей Родине несчастья, то лишь потому, что уверен — это ускорит конец правящей своры и начало выхода из того положения, в какое по ее вине попала наша империя…»