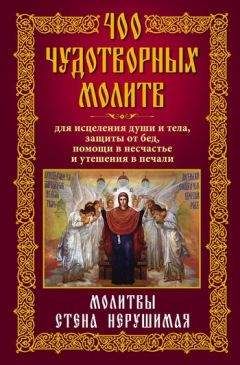Олег Гончаров - Полонянин
— Вы его, часом, голодом не заморили? — спросил я Малушу.
— Да ну, — махнула она рукой. — Дважды в день я ему снедь приносила. Под дверь миски просовывала. Отпирать-то ты его не велел. Он сначала ругался сильно. Потом просил, чтоб я его выпустила. А потом притих. Успокоился.
— Молодец, сестренка, — улыбнулся я ей.
Засов отодвинул, дверь распахнул, об миски Малушины споткнулся. Огляделся и обмер. Оконце под потолком клети узенькое, для дневного освещения и ветерка свежего прорублено, на задний двор выходит. Решеткой кованой оно забрано. К решетке этой кушак привязан. На другом конце кушака петля сделана, а в петле гонец. За шею он себя повесил. Мне аж дурно стало от жути такой. [78]
Никогда я подобного не видывал. И представить даже не мог, что вот так из жизни уйти можно. Сбежал, выходит, от меня гонец. Мук вечных не побоялся. Сплюнул я от досады. А Малуша завопила от страха. Прочь выскочила.
Там мертвяк, тут мертвяк. Обрублены концы. И за что зацепиться? Ума не приложу.
Погоди-ка.
Подошел я к висельнику, превозмогая отвращение, рубаху на его груди рванул. Так и есть. Вот он. Тот же знак: крест и рыба над ним.
— Все вы одним клеймом мечены! — сказал я зло и из поруба на свет пошел.
Где же дальше заговорщиков разыскивать? На этот вопрос я ответ позже нашел, когда после бани за стол поснедать сел. Загляда меня откармливала, яства разные подсовывала, а я и не отказывался. Считай, что два дня во рту ничего, кроме слюны, не было. А потом и она высохла.
— О чем ты, княжич, задумался? Или не по вкусу тебе стряпня? — спросила меня Загляда.
— Да вот никак в толк не возьму, — ответил я девке, — где же мне христиан здесь искать?
— Как где? — плечами пожала. — Там же, где иудеев и магометан. В Козарах! Там даже церква ихняя стоит.
Тут и поперхнулся я. Чуть кулебякой не подавился. Как же я про церковь позабыл? Ее же еще Оскольд поставил. И осознал вдруг, что еще не все потеряно.
Вскочил я из-за стола, Загляду на радостях расцеловал.
— Вот туда мне и надобно!
— Что же ты и сбитню не попил? — она мне вслед крикнула.
Шел я по Козарам, а сам все вспомнить пытался, где же я того лихоимца-предводителя видел?
Нет, никак не вспомнить.
Вот и церква. Сруб, в лапу сложенный, маковка по-сверх. На маковке крест. Над входом свято чудное — Иисус, такой же, как в книге Ольгиной, на кресте расчаенный. Худосочный он какой-то, одни ребра торчат. И как мог он на свои плечи все грехи людские взвалить? Видать, и вправду духом своим силен был.
Отворил я дверь и внутрь вошел. А внутри пахнет приторно, от лампады маленькой чад стоит. Нет никого. А лампада другое свято освещает. Пригляделся, а на доске закопченной Перун намалеван. На колеснице он по небушку летит. В руке его молонья зажата. Вот тебе и раз. Как этот-то в церквушке оказался?
— Чего тебе надобно, добрый человек? — вздрогнул я от голоса.
Не сразу впотьмах человека разглядел. Да и как его заметить, если в черной одеже он. Сам тоже черен, волосат и кучеряв длинной бородой. Только на пузе крест большой на тяжелой цепи золотом отсвечивает.
— Или захотел к таинствам апостольским приобщиться? — И выговор у него смешной.
Не нашенский выговор. Словно слова подыскивает.
— Уж не ты ли отец Серафим? — я его спрашиваю.
— Я, — отвечает черный.
— Вот тебя-то мне и надобно. — За горло я его схватил и к стене придавил.
Захрипел он, глаза с перепугу вытаращил. Не ожидал он, видать, от меня такой ласки. А я ему, пока не опомнился:
— Где тут у тебя можно в тишке поговорить? Чтоб не помешал никто?
Он только глаза на свято скосил.
— Ясно. Ты только не ори, тогда жить будешь. Заморгал он глазами. Дескать, орать не буду. Оно и понятно, хоть и с Богом он своим отцовство над христианами киевскими делит, однако ж повидаться с Христом не спешит.
— Вот и славно, — говорю я ему и пальцы на горле разжал.
Закашлялся он. Пополам согнулся. Посипел немного, смог вздохнуть наконец.
— Что ж ты делаешь, аспид? — прошептал.
— Ты поговори мне еще, — я ему. — Давай веди. — И коленкой его легонько под зад пихнул.
Подковылял он к Громовержцу, лампаду с крюка снял, рукой по стене пошарил, и отъехало свято в сторону. А за ним клетушка потайная.
— Заходи, — говорит, — тут нам никто не помешает. Зашли мы в клетушку. Он лампаду повыше поднял, чтоб света побольше было. А в клети добра разного навалено. Рухлядь мягкая, чаши золотые, сундуки какие-то.
— Да я смотрю, у тебя тут лабаз, — ухмыльнулся я. — Эка ты здесь ценностей накопил.
— От прихожан дары, — тихо сказал он. — Не мое это. Богово.
— Как на капище?
— На капищах ваших истуканам деревянным подношения приносят, а здесь Богу Вседержителю. От сердца, от любви большой люди жертвуют. А Богу это и не надобно. Он и так владетель всего, что в Мире есть. Если надо тебе, забирай, что душе угодно, добрый человек. — Он лампаду под потолок подвесил. — Только жизнь мою мне оставь.
— Не нужна мне пока твоя жизнь, и даров не надобно, — я ему. — Ты мне грудь свою заголи.
— Что? — не понял он.
— Одежу скидай.
— Ага, — кивнул он, а сам глазищи на меня вытаращил, не понимает, зачем мне его рубище понадобилось. — Ты мне только позволь горло промочить, а то дерет, спасу нет.
— Давай, — говорю, — да живее только.
Он корчагу с сундука руками трясущимися схватил и жадно пить из нее начал.
— Ты смотри не захлебнись. Оторвался он от корчаги испуганно.
— Вода? — спросил я у него.
— Нет, — замотал он головой. — Кровь Христова.
— Так ты кровопийца? — удивился я. Он только головой замотал.
— Вино мы так называем. Хочешь спробовать? — И корчагу мне протягивает.
— Ну, давай, — попробовал, а вкусное вино, забористое. — Сладко.
— Это от любви Боговой, -смотрю, он успокаиваться начал.
— Ты мне про любовь потом расскажешь, а пока скидывай одежу.
— Ага, — повторил он и стал стягивать с себя ризы черные.
— Слышь, Серафим? А чего это у тебя Перун на свято намалеван?
— Это не Перун, — он мне в ответ. — Это покровитель наш, Илия Пророк. Церковь эта ему посвящена. Икона с ликом пророка из самого Царьграда привезена. От патриарха Константинопольского.
Вот тебе раз. Я думал, что они в единого Бога веруют, а выходит, и у христиан свои покровители имеются.
Между тем стянул Серафим с себя одежу. Я ему на грудь посмотрел — чистая, только волосата больно, а знаков и клейм нет.
Я только в затылке почесал. Совсем запутался.
— Одевайся, — говорю. Тут он и вовсе оторопел.
— Зачем? — спрашивает.
— Чтоб не замерз, — рассмеялся я.
— Ага, — сказал он в третий раз и совсем ошалел.