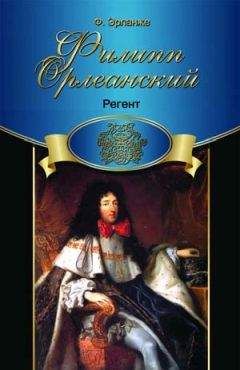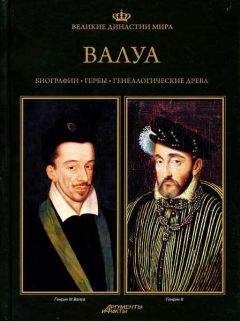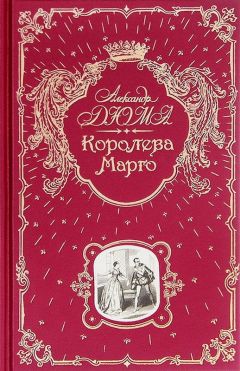Михаил Щукин - Покров заступницы
— Покарауль пока, я к Скорнякову наведаюсь и вернусь.
Гордей Гордеевич в этот поздний час не спал. Сидел за своим большущим столом, закатав рукава у рубахи, словно не бумаги читал, а рубил дрова. Бумаги перед ним лежали разные и в большом количестве. Лежал устав общества мясной промышленности, над которым корпел он уже полгода, предлагая объединиться мелким промышленникам и построить в Никольске мясоконсервный завод — выгода, по его расчетам, была прямая, и промышленники, тоже умеющие считать, уже потянулись к нему, готовые участвовать в новом деле. Лежала местная газета с большущим заголовком — «Черная сотня добралась до живого мяса». Неизвестный писака, укрывшись за буквами П. Р., ругал Скорнякова всяческими словами и издевался над его идеей создания мясоконсервного завода. Лежало подметное письмо, без адреса и без подписи, и в нем были написаны такие слова: «Думаешь, не знаем мы, истинные патриоты, для чего ты общество это затеял? Знаем! Соберешь с русских людей деньги, а когда дело наладится, ты его жидам продашь! Знаем мы, что ты давно уже с ними снюхался и общий гешефт имеешь!» А еще лежали два письма из столицы, и в каждом из них было требование: присоединяй Никольское отделение к нашему, единственно верному и правильному Союзу, иначе будем мы считать тебя отступником…
Когда Гиацинтов вошел к нему в комнату, Гордей Гордеевич, словно продолжая горячий разговор, не удержался и вскрикнул, как вскрикивают, когда нечаянно роняют на ногу железную тяжесть:
— И что же мы за народ такой! А?! Собрались, верными речами разжалобили себя до слезы сердечной, решили общее дело делать… Все согласились, никаких супротивников посреди нас не было. И пошли ведь, как солдаты в строю ходят, в ногу. И дело начали делать, хоть и гавкали на нас со всех сторон. И шагали бы дальше… Ан нет! В каждой шеренге свой вождь объявился, а у каждого вождя своя правда, и только его правда истинная. А если ты с этой правдой не согласный, клеймо на лоб — жидам продался! Эх! — Скорняков шлепнул широченными ладонями по бумагам, лежавшим на столе, и спросил неожиданно, без всякого перехода: — Что, молчит гаврик?
— Молчит, — вздохнул Гиацинтов.
— Бить не пробовали?
— Пока нет.
— Вот и ладно. Голова у него целой должна быть, чтобы соображал яснее, как ему в живых остаться. Поехали, поглядеть я на него хочу.
Скоро они уже были в мастерской. Федора, на всякий случай, оставили на улице, в карауле, а Забелина, развязав ему веревки на ногах и вытащив перчатку изо рта, посадили на табуретку. Он отплевывался, с надсадой дышал, но глаза его с кровяными прожилками уже не метались, смотрели прямо и сосредоточенно. Чувствовалось, что страха у него не было.
— Какой сердитый! — непритворно удивился Скорняков. — Насквозь гляделками прожигает. А скажи мне, милый друг, почему ты согласился своего начальства ослушаться? Нехорошо поступаешь…
— У меня нет начальства, — хрипло отозвался Забелин.
— Да ты не торопись отнекиваться, не торопись… Я для начала, для ласковой беседы, сам тебе кой-чего поведаю. Ты послушай, торопиться нам некуда… Вон, темно еще за окошком, и утро не скоро наступит… Ты послушай, послушай… Наказывало начальство вот каким образом поступить — болезного, которого вы сюда привезли, до нужного места доставить, чтобы мозги у него прояснили, сообщить куда надо, а дальше сесть и не высовываться. Да только бабенка вам попалась с норовом — сбила с панталыку. Решила она болезного забрать и властвовать над ним единолично. Вы с товарищем своим посомневались да и согласились в конце концов. Да только беда приключилась — пока ругались да спорили, болезный и пропал. Испарился, аки дым… А начальство своих гонцов сюда пришлет, обязательно пришлет, если они уже не в Никольске, чтобы они, значит, выяснили — как тут у вас плохо все выплясалось. Ох, не погладят вас по головке, не погладят…
Говорил Скорняков неспешно, негромко, будто ворковал, однако от его слов заволновался не только Забелин, но и Гиацинтов, который лихорадочно пытался понять: откуда знает Гордей Гордеевич о болезном, то есть о предсказателе, ведь об этом ему не рассказывали? Так и подмывало спросить — откуда? Но Гиацинтов сдержался, продолжал молчать, с нетерпением ожидая — чем все закончится?
Закончилось же все быстро и просто. Забелин отвернул голову, сплюнул на пол тягучую слюну, закашлялся, прочищая горло, и наконец заговорил:
— Выродок твой подслушал. Значит, специально подослан был. Так?
— Какая тебе разница? — отозвался Скорняков. — Ты рассказывай, рассказывай, заодно и душу облегчишь, может, и покаешься.
— Вы же не попы, чтобы перед вами каяться, — усмехнулся Забелин, — а рассказать — расскажу. Но только при одном условии — дайте мне слово, что живым отсюда выпустите.
— А зачем нам убивать тебя, когда ты все расскажешь? — рассудительно удивился Скорняков. — Нам лишний грех на души не нужен.
— Тебе, может, и не нужен, а вот господину Гиацинтову… У него ко мне давняя претензия, я ему…
— Дуэль! — громко прервал его Гиацинтов. — А там — кому повезет…
— Нет, такое условие мне не подходит, я же знаю, как ты стреляешь! Да и дуэль, Владимир Игнатьевич, — так старо и пошло… Просто дай слово — оставлю в живых. И все. Больше мне ничего не нужно. Я твоему слову поверю. Заодно о Вареньке Нагорной расскажу. Неужели она этого не стоит?
Гиацинтов, испытывая неодолимое желание вцепиться Забелину в глотку и задушить его, продолжал стоять, прислонившись к стене, и ясно понимал: ради Вари он пойдет на все, даже оставит в живых мерзавца. Кивнул головой:
— Хорошо. Согласен. Даю честное слово.
— Тогда слушайте. Только дайте сначала воды глотнуть…
10
…Приземистая и выносливая лошадка сибирской породы испуганно пригнула уши и как будто просела под своим седоком, сбившись с равномерной рыси, когда оглушительно, разом, взорвался ружейный грохот — столь плотный, что больно ударил в барабанные перепонки. Забелин привстал на стременах, оглянулся и увидел поверх низких кустов, как поднялись густые цепи японской пехоты. Когда увидел, подстегнул лошадку, и та, одолев неожиданный испуг, бойко пошла вперед. Осталось позади подножие горного хребта, голое, как колено, осталась позади команда охотников Забайкальского полка, и самое главное — остался ненавистный Гиацинтов, к которому теперь неумолимо приближались японцы.
— Вот и геройствуй, покажи свою прыть! — сквозь зубы бормотал Забелин и продолжал торопить лошадку, стараясь поскорее и как можно дальше отъехать от опасного места. Душа его ликовала. Человек, которому он всегда завидовал до сердечной боли и зубовного скрежета, человек, которого он ненавидел, исчезнет через считаные минуты из этого мира, и он, Константин Забелин, возвысится в собственных глазах, зауважает самого себя, избавится наконец-то от съедающего его чувства неполноценности. Это чувство зародилось в нем еще со времени поступления в университет, разрасталось в последующие годы и захлестнуло без остатка, когда появилась Варвара Нагорная. Ну как же так? Одному дано все, а другому — ничего! Забелин и на войну пошел только из-за этого чувства, надеялся, что станет героем и сможет возвыситься над Гиацинтовым. Но ничего из этих мечтаний не вышло — он сразу же понял, что никакой храбрости у него и в помине нет, что собственную жизнь он никогда не разменяет на славу, даже самую лучезарную.