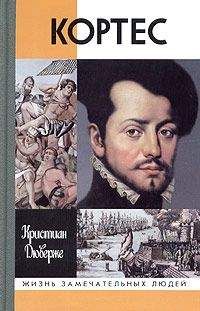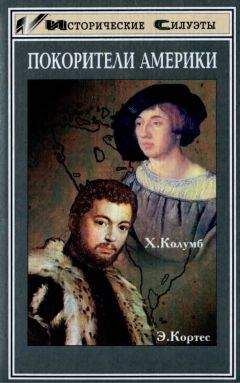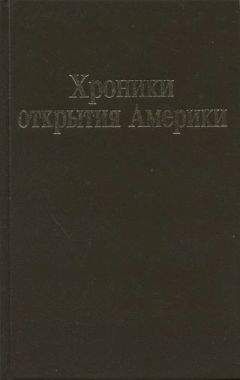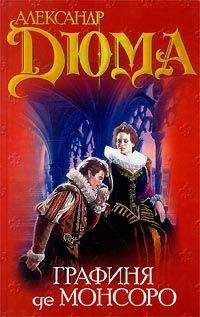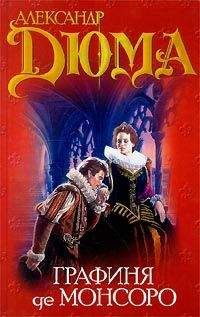Александр Дюма - Графиня де Монсоро
– Смерть Христова! Я уверен, что ты уже давно разучился краснеть, господин греховодник, – сказал монах.
– Какой же я греховодник, – возмутился Шико. – Да я олицетворенное воздержание, воплощенное целомудрие, без меня не обходятся ни одно шествие, ни один пост.
– Да, шествия и посты твоего Сарданапала, твоего Навуходоносора, твоего Ирода. Корыстные шествия, показные посты. К счастью, все уже начинают разбираться в твоем короле Генрихе, дьявол его побери!
И Горанфло вместо речи запел во всю глотку:
Король, чтоб раздобыть деньжат,
В лохмотья вырядиться рад;
Он лицемер.
И покаяний, и постов,
И бичеваний нам готов
Подать пример.
Но изучил его Париж,
И вместо денег ему шиш
Сулит любой.
Он просит в долг – ему в ответ
Везде дают один совет:
«Ступай с сумой!»
– Браво! – закричал Шико. – Браво!
Затем тихо добавил:
– Добро, он запел, значит – заговорит.
В эту минуту вошел мэтр Бономе, он нес знаменитую яичницу и две новые бутылки.
– Тащи ее сюда! – крикнул монах, блестя глазами и ухмыляясь во весь рот.
– Но, мой друг, – сказал Шико, – вы не забыли, что вам нужно произносить речь?
– Она у меня здесь, – сказал монах, стуча кулаком по своему лбу, на который со щек уже наплывал огненный румянец.
– В половине десятого, – напомнил Шико.
– Я солгал, – признался Горанфло. – Omnis homo mendax confiteor.[46]
– В котором же часу на самом деле?
– В десять часов.
– В десять часов? По-моему, монастырь закрывается в девять.
– Ну и на здоровье, пускай себе закрывается, – произнес монах, разглядывая пламя свечи через стакан, наполненный рубиновым вином, – пусть закрывается, у меня есть ключ.
– Ключ от монастыря? – воскликнул Шико. – Вам доверили ключ от монастыря?
– Он у меня в кармане, – и Горанфло похлопал себя по бедру, – вот здесь.
– Не может быть, – возразил Шико. – Я отбывал покаяние в трех монастырях; я знаю – ключ от аббатства не доверяют простому монаху.
– Вот он, – с торжеством в голосе заявил Горанфло, откидываясъ на стуле и показывая Шико какую-то монету.
– Смотри-ка! Деньги, – сказал тот. – А, понимаю. Вы совратили брата привратника, и он в любой час ночи пропускает вас, несчастный грешник.
Горанфло растянул рот до ушей в блаженной и доброй улыбке пьяного человека.
– Sufficit![47] – пробормотал он.
И неверной рукой понес монету по направлению к карману.
– Подождите, дайте сначала взглянуть, – остановил его Шико. – Смотри, какая забавная монетка.
– Это изображение еретика, – пояснил Горанфло. – А на месте сердца – дырка.
– Действительно, это тестон[48] с изображением короля Беарнского. В самом деле, вот и дырка.
– Удар кинжалом! – воскликнул Горанфло. – Смерть еретику! Убийца еретика заранее причисляется к лику святых, я уступаю ему свое место в раю.
«Ага, – подумал Шико, – вот кое-что начинает уже проясняться, но этот болван еще недостаточно опьянел». И гасконец снова наполнил стакан монаха.
– Да, – сказал он, – смерть еретику и да здравствует месса!
– Да здравствует месса! – прорычал Горанфло и с размаху опрокинул стакан в свою глотку. – Да здравствует месса!
– Значит, – сказал Шико, который при виде тестона, зажатого в толстом кулаке монаха, вспомнил, как привратник осматривал руки у всех входивших под портик монастыря, – значит, вы предъявляете эту монетку отцу привратнику и… вы…
– И я вхожу.
– Свободно?
– Как вот это вино входит в мой желудок.
И монах проглотил еще одну порцию доброго напитка.
– Чума побери! Если ваше сравнение верно, то вы войдете, не касаясь дверей.
– Для брата Горанфло, – бормотал мертвецки пьяный монах, – для брата Горанфло двери распахнуты настежь.
– И вы произносите свою речь!
– И я про… произношу мою речь. Вот как это будет: я пришел, слушай, Шико, я пришел…
– Конечно, я слушаю, я весь превратился в слух.
– Я пришел, г-говорю тебе, я пришел. С-собрание большое, общество самое избранное, тут – бароны, тут – графы, тут – герцоги.
– И даже принцы.
– И д-даже принцы, – повторил монах. – Как т-ты сказал… принцы? Подумаешь, принцы! Я вхожу смиренно среди других верных во Союзе…
– Верных во Союзе? – переспросил Шико. – А что это за верность такая?
– Я вхожу среди верных во Союзе; в-выкликают: «Брат Горанфло!», я в-выхожу в-вперед.
При этих словах монах поднялся.
– Ну давайте, выходите, – поторопил Шико.
– Я в-выхожу, – сказал Горанфло, пытаясь сопроводить слова действием.
Но стоило ему сделать один шаг, как он налетел на угол стола и покатился на пол.
– Браво! – крикнул Шико, поднимая монаха и снова водружая на стул. – Вы выходите, приветствуете собрание и говорите…
– Н-нет, н-не я говорю, говорят мои друзья.
– И что же они говорят, ваши друзья?
– Друзья говорят: «В-вот он – брат Горанфло! Будет держать речь б-брат Горанфло! Какое отличное имя для лигиста – б-брат Г-горанфло!»
И монах принялся твердить свое имя с самыми нежными интонациями в голосе.
– Отличное имя для лигиста? – повторил Шико. – Какая еще истина выйдет из вина, которое вылакал этот пьяница?
– И т-тут я н-начинаю…
Монах поднялся, закрыв глаза, ибо все предметы расплывались перед ним, и опираясь о стену, так как ноги его не держали.
– Вы начинаете… – сказал Шико, прислонив его к стене и поддерживая, как Паяц Арлекина.
– Н-начинаю: «Братие, сегодня пр-рекрасный день для веры; братие, сегодня р-распрекрасный день для веры; братие, сегодня самый пр-рекрасный-р-р-распре-красный день для веры».
После этого прилагательного в превосходной степени Шико понял, что ему уже не удастся вытянуть из брата Горанфло ничего путного, и отпустил монаха.
Брат Горанфло, который сохранял равновесие только благодаря поддержке Шико, будучи предоставлен самому себе, тут же соскользнул вниз по стене, как плохо прибитая доска, и при этом толкнул ногами стол, да так сильно, что пустые бутылки попадали на пол.
– Аминь! – сказал Шико.
Почти в то же мгновение богатырский храп, напоминающий раскат грома, потряс стекла тесной комнатушки.
– Добро, – сказал Шико, – куриные ножки сделали свое дело. Теперь наш друг проспит не менее двенадцати часов, и я беспрепятственно могу его разоблачить.
Времени терять было нельзя, и Шико не мешкая развязал шнурки на рясе Горанфло, высвободил его руки из рукавов и, ворочая монаха, как мешок с орехами, завернул в скатерть, закрыл ему голову салфеткой и, спрятав рясу под свой плащ, вышел на кухню.