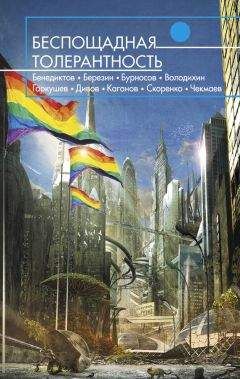Олег Слободчиков - По прозвищу Пенда
Ответили они ему степенно и рассудительно:
— Здесь крыша над головой, очаг и баня, какой-никакой, а съестной припас — до Троицы прожить можно.
— Самое время мясо добывать — олень и лось на север идут. Скоро щука хвостом лед побьет — рыба ловиться станет… В Мангазее же к лету, сказывают, посадские и в бани на ночлег Христа ради не пустят. За кров — плати, за дрова — плати, к весне ржаной припас вдвое дороже, а дичины возле города не добыть.
— Нехристи, что ли? — вспылил Табанька, удивленно оглядывая исхудавших, в обветшавшей одежде людей. — На Святую Пасху с медведями плясать?
— И здесь помолимся! — возражал поперечный Нехорошко. — Дождемся большой воды, по ней поплывем в город. А там, глядишь, из Обдорска прибудут купцы с хлебом, подешевеет ржаной припас.
— Да здесь и на Петра-солнцеворота бывает лед по рекам, — распалялся Табанька. — Сколько ж без дела сидеть? От такой жизни и медведь с тоски помрет… Там бани, пиво, церкви, гуляние!
Не понимали Табаньку устюжане с холмогорцами, а донцы-покрученники в спор не вмешивались.
— Вызнав нужду, купцы такие цены на хлеб заломят — никакие промыслы не спасут, последний кафтанишко заложить придется, — рассудительно заметил старый сибирец Лука Москвитин.
— Сами хотите бездельничать и нас принуждаете, — яростней заспорил Табанька, кивая на донцов, как на опору. — В городе, — ударил себя в грудь, — плотники да каменщики — полезны будем и людям, и Богу.
Все обернулись к Пантелею, в чью сторону так уверенно кивал Табанька. Тот расправил по груди молодецкую бороду, поднялся крестясь.
— С тоски не закручинимся, — сказал. — На суда в Мангазее цены высоки, вместо стружков-однодневок[51] или плотов построим струги, а то и шитик[52]. Сосна есть. По большой воде князьями сплывем. А после суда продадим.
Табанька и вовсе скис, косо и боязливо поглядывая на казака: на его мерку, он был упрям, как поморец, хитроумен, как холмогорец, а по нраву — московит!
Запечалился передовщик, глядя на ватажных. Что с того, что крест ему целовали и сажали властвовать? Как исполнивший назначение трутень в пчелином улье упирается, не понимая, отчего его, недавно всеми почитаемого, выталкивают вон на верную погибель, так и Табанька безнадежно противился, но идти против всех не отваживался. Только ворчал: и мяса, дескать, не добыть, и рыбы, мол, не наловить.
— Чтобы оленя промышлять, места иметь надо. Остяки весной собираются большими родами и промышляют все, кто может лук в руках держать. А как нагрянут к зимовью и станут здесь табором? — наговаривал смутные угрозы. — Они нам уступают только пушнину, а за корма и рыбу могут мир порушить, и воевода их оправдает, ради мира с ясачниками все вины на нас свалит.
Промышленные, выслушав всех, кто желал что-то сказать, решили: с мясным и рыбным промыслом да с охотой на птицу быть как Бог даст. Заложить шитик под началом Пантелея Пенды и каждому для этого срубить и приволочь по две сосны да распустить на доски, как он укажет. Передовщику же Табаньке, сыну Куяпину, заботиться о пополнении мясного и рыбного припаса и брать для этого людей, сколько надобно, и промышлять не в ущерб строительству.
А если кто нарушит соборное решение и побежит в Мангазею на Святую Пасху — тем уйти воля, но ужину из ватажной добычи не выделять до общего возвращения.
Вскоре, проваливаясь в прихваченный ночной стужей наст, мимо зимовья прошел лось. Табанька, Угрюмка и Третьяк, взяв нарту, пошли по следу. Наст держал людей на лыжах, а лось то и дело проваливался. День был пасмурный. К вечеру промышленные догнали бы изнуренного зверя и добыли его. Но возле березняка, в котором хотел укрыться и отдохнуть лось, его забили тазовские остяки, тоже промышлявшие мясной припас на двенадцати оленях.
Обескураженных русских людей они встретили приветливо, хотя среди них не было толмача. Знаками пригласили к стану, напоили брусничным отваром, предлагали свежую, испеченную на углях печень и порсу, но было время строгого поста.
Табанька что-то пытался лопотать. Поняли его или не поняли остяки, но отрезали тяжелую лосиную лопатку с копытом, а за это потребовали поделить добытое мясо среди остяцких семей, чтобы у тех не было обид на родственников.
Промышленные вернулись не совсем пустыми, но и не с той добычей, на которую рассчитывали. На другой неделе по следу прошедшего зверя пошли пятеро и добыли его.
На устье ручья, при впадении в Таз-реку ловилась рыба в прорубях. Место это считалось бедным. Остяков оно не привлекало, но кое-какой припас щуки, окуня, сороги, язя и нелядки зимовщикам удавалось наморозить и засолить.
Пантелей Пенда выбрал место для верфи вдали от берега и заложил остов шитика. Указав, что кому делать, он стал трудиться с утра до вечера: и доски тесал, и остов судна ставил.
Одни из промышленных плотничали, другие копали корни, курили смолу, плели канаты и делали бечевы. У кого не лежала душа к плотницким работам — уходили от зимовья все дальше и дальше в поисках мясной добычи, а возвращались они не изнуренные постом.
— У кого к Чистому понедельнику скоромное в зубах навязнет, тот чертей во сне видит! — ворчал Лука Москвитин, укоряя охотников в Страстную неделю.
Те смущенно оправдывались, говоря, что, кроме сосновой заболони ничего не ели. А то, что во сне кричат, — то нечисть на Страстную неделю в доме лютует.
— Ты бы помело или кочергу зажал меж ног да обскакал бы зимовье! — предлагали Луке, чтобы очистить жилье от нечистой силы. Тот, указывая на холмогорцев, на Тугарина, не мог не съязвить, что им, блюстителям старины, это больше пристало, чем ему, устюжанину, «порченному законом татарским да обычаем византийским».
На верфи работали молча, боясь проронить пустое слово, то и дело читали вслух молитвы, чтобы не пускать безлепицу в мысли. Вечерами пели «Сон Богородицы», про Лазаря и Алексея человека Божья. Третьяк подпевал складникам красивым голосом, а то и сам начинал песни печальные.
В ночь на Великий четверг, как принято на Руси со времен стародавних, все жгли старую одежду, выжигали в очаге соль, купались в проруби задолго до зари, пока ворон не выкупал своих воронят, мазали на дверях и воротах кресты очищенной четверговой смолой, ходили в лес бить в котлы и в сковороды.
Рассыпалась старая одежка на окрепших Угрюмкиных плечах. Сколько ни штопал, ни чинил — на другой день опять дыра. Оглядел он со всех сторон сношенный охабень, повздыхал — да и сжег его в надежде на будущую обнову. А до тех пор решил походить в рубахе да душегрее из шкур.
На Страстную субботу не промышляли и не работали, только молились в вычищенном зимовье, готовили скоромную праздничную снедь. Отстояв всенощную, наутро, в Велик день, зимовейщики преломили обетный хлеб. Вместо облупленного яйца стали разговляться вареной печенью, присыпанной четверговой солью.