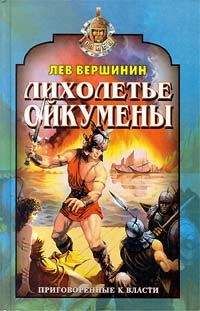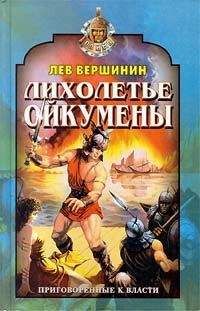Лихолетье Ойкумены - Вершинин Лев Рэмович
И все равно, еще прежде, чем солнечные часы на агоре возвестили наступление полудня, по узеньким кривым улочкам Триполиса, по белоснежному Верхнему Городу, по задымленным портовым харчевням и торговым рядам необъятного рынка прополз некий слушок. Иные передавали его с глумливой ухмылкой, многие – пугливо округляя глаза, некоторые – недоуменно пожимая плечами, но все без исключения – сдавленным шепотом, из уст в ухо, многократно перед тем оглядевшись по сторонам и вздрагивая от собственной смелости…
«Ты родила мне идиота!»
Так сказал Антигон, завершая беседу уже под утро, в зыбком трепете рассвета, и вышел, хлопнув на прощание дверью так, что с резной полочки упали и разбились вдребезги бокалы из драгоценного финикийского стекла. Никто не сомневался, что эти слова были сказаны, их передавали как не подлежащие сомнению, хотя никто и не слышал их своими ушами… И они действительно были сказаны, но на бледном лице женщины появился слабый румянец, потому что в грохоте удаляющихся шагов не было уже сухой, жесткой, обрекающей решимости, тлевшей вчерашним вечером в глубине застывшего нечеловеческого ока седогривого всадника, ворвавшегося в триполийские ворота на запаленном, плюющемся пеной вороном иноходце…
– Говори! – неожиданно тихо приказал Антигон.
Он не позволил присесть, и Деметрий торопливо заговорил, стоя, как стоял, навытяжку, словно хорошо обученный новобранец, крепко помнящий хлыст десятника.
– Это было не по правилам, мой повелитель!
Отец разрешил объясниться! Он готов выслушать!
И Деметрий спешит рассказать все, как было. Рассказ его сбивчив, он то и дело теряется, утратив путеводную нить, и возвращается к уже сказанному, пытаясь не упустить ни одной подробности.
Ведь все было просчитано и учтено, и даже старина Пифон, да упокоят боги в Эребе его отважную душу, не нашел изъянов в стратегеме Деметрия. Стена фаланги – в центре, тяжелая конница гетайров на левом фланге и легкая – на правом, почти вплотную к грохочущему в предвкушении созерцания битвы морю. Отец не может не понять?! Девять эскадронов прославленной тарентинской конницы, способной смести с лица земли даже вавилонские стены – по щеке Антигона пробежала едва заметная судорога, и Деметрий запоздало ужаснулся, осознав, что угодил в больное место; не следовало вспоминать о Вавилоне! – а впереди ударного, левого крыла – элефантерия, сорок слонов, сорок сгустков ревущей ярости, опьяненной разъяряющим напитком и рассерженных уколами анкасов.
Что могло устоять против удара этой разумно организованной мощи?!
Ничто!
И если бы не подлая выдумка Лага…
Сколько будет жить Деметрий, этого ему не забыть!
Все быстрее и быстрее, сперва удерживаясь в ровной линии, затем постепенно расходясь веером, трогаются с места слоны. Изогнутые клинки разбрасывают по сторонам мириады мириад солнечных искр. Окольцованные шипастыми боевыми браслетами хоботы извиваются, подобно щупальцам Ехидны, и вслед за слонами, готовые прорваться в разрывы меж серыми холмами и сокрушить, и уничтожить, и смять вражескую конницу, медленно, сперва неторопкой хлынцой, а затем только переходя на рысь, движется лавина тарентинских кентавров, поддержанная этерией. А на правом, второстепенном фланге, под рукоплескания нимф, наблюдающих из морской пены за боем, уже схлестнулась легкая пехота, и кованый прямоугольник фаланги играючи отбрасывает набегающие тагмы египетских гоплитов, раз за разом сбрасывая с сарисс тела несчастных, не успевших вовремя увернуться… И битва уже выиграна! Она завершилась победой, не успев толком и начаться… Но внезапно громовой рев элефантерии сменяется стонущими воплями, похожими скорее на визг гигантских, ужаленных оводом в самое уязвимое место свиней… А вокруг уже кипит другой бой, тот, который не был предусмотрен великолепной стратегемой Деметрия! Напротив, громадноухие великаны беспорядочно мечутся среди людей, топча и разбрасывая неостановимых в разбеге тарентинских всадников! Ряды этерии смешиваются, чтобы не угодить слонам под ноги… И враг в глухом лаконском шлеме вдруг налетает сбоку, и еще один почти сзади…
С того момента не было уже на поле боя вождя и стратега Деметрия! Обычный всадник, один из множества бойцов этерии, он покрыл себя славой в тот день, но не славой полководца! Он дрался, чтобы умереть так, как те, о ком поют аэды, и одному лишь Пифону обязаны остатки армии тем, что сумели все же вырваться из почти замкнувшегося в тылу кольца врагов…
Старик сделал то, что много выше человеческих сил и станет легендой! Останься он в живых, мало чья слава смогла бы сравниться с его славой! Но он пал там, под Газой, сбитый камнем из пращи под ноги взбесившихся слонов, и останки его были опознаны гораздо позже, победителями, по известному всем македонцам, кому бы они ни служили, сапфировому браслету, подарку Божественного, надетому по килийской моде и странной для македонского ветерана прихоти на левую, неисповедимым чудом уцелевшую в сплошном медно-кровавом месиве лодыжку…
Как донесли лазутчики, Птолемей приказал с честью возложить на костер немногое, оставшееся от Пифона.
В том числе и браслет.
– Это было подло, повелитель! – едва не плачет Деметрий и совсем по-мальчишески вытирает тыльной стороной кисти мокрые ресницы.
Попробуй же увидеть, отец, как видел я! Вот мерно колышущаяся цепь слонов уже приблизилась к подавшейся назад египетской коннице. Еще миг, и они соприкоснутся… И внезапно, совсем нежданно, неприятельские всадники расступаются, выпустив в поле, прямо под ноги слонам юркие, плохо различимые фигурки, и те принимаются муравьино суетиться, прыгать и размахивать руками, ловко уворачиваясь от разъяренных гигантов…
– Доски, отец! Доски! Понимаешь? Доски!.. – кричит Деметрий.
Всего лишь широкие тонкие доски, густо усыпанные зазубренными гвоздями, швыряли на пути элефантерии проворные, зычно вопящие воины в черно-белых клетчатых головных повязках-куфиях… И какой-то миг Деметрию пригрезилось, невзирая на расстояние, что прямо перед ним мелькнуло горбоносое лицо Рафи Бен-Уль-Аммаа с распяленным в безмолвном крике ртом и вытаращенными глазами! Понукаемые махаутами слоны рвались вперед и калечили ноги! Они вопили и топтались на месте, а люди кельби, частью конные, но в большинстве – спешившиеся, осыпали стрелами и камнями башенки на слоновьих спинах, сбивая на землю тщетно пытавшихся прикрыться маленькими круглыми щитами беззащитных погонщиков… И когда махаутов не стало, обезглавленная элефантерия развернулась вспять, тупо, дико, неостановимо бросившись навстречу отборной, уже не способной ни свернуть, ни остановиться тарентинской коннице…
Что было дальше?
Этого не может вспомнить гетайр Деметрий, под правый сосок которому на три пальца вошло тонкое острие египетского дротика, смазанного ядом, к счастью, судя по всему, старым и наполовину утратившим силу… Пусть отец спросит у Зопира, когда войсковые врачи подлатают одиннадцать колотых и рубленых ран, оставленных на теле перса копьями, дротиками и мечами наемников Птолемея…
Вокруг черного, уже не такого тусклого зрачка наместника Азии неторопливо появляется холодная, светло-серая кайма райка.
– Садись, сын. Поговорим, – по-прежнему тихо позволяет Антигон. И, видя, что до Деметрия не дошел смысл сказанного, повторяет:
– Садись!
Ноги сообразили прежде подернутого дымкой разума и мягко подломились, уронив крупное тело Деметрия на жесткое войлочное сиденье.
– Скажи мне… – голос старика прозвучал негромко, как звучал и прежде, но было на сей раз в нем что-то иное, не угрожающее. Скорее всего просто бесконечная усталость. – Ведь вы подошли к Газе внезапно. Почему ты запретил Пифону атаковать с ходу?
Одноглазый, как всегда, знал все до мелочей. И сыновний отчет нужен ему был, выходит, вовсе не для того, чтобы разобраться в происшедшем. Деметрий вдруг ясно понял: он говорил впустую! Отец уже разобрался во всем. До конца. И сделал выводы.
– Я не хотел, чтобы победа была бесчестной, – упавшим голосом ответил он.