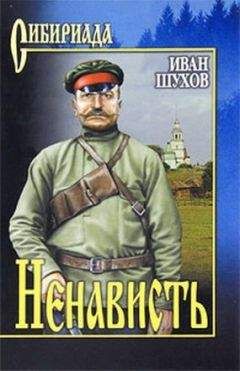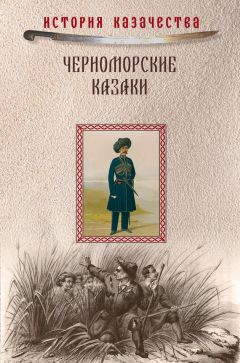Горькая линия - Шухов Иван
— Ой, Бала! Выручай меня, золотой мой стригун! Не срамись перед байскими скакунами, мой хороший!
Вот сверкнул узкий и плоский, как нож, залив озера. На мгновение мелькнул в глазах зеленый огонь густой прибрежной травы на займище. Ералы временами видел перед собой пустынную степь с парчовыми ковылями и стремительно мчавшуюся ему навстречу широкую степную дорогу. Ни разу не оглянувшись, подпасок тем не менее чувствовал, как все дальше и дальше отставали от него восемнадцать байских наездников на своих красивых, надменных и злых скакунах, как все глуше и глуше стучали на утрамбованной дороге некованые конские копыта.
Ералы не знал и не помнил, сколько времени летел он, как вихрь, на своем стригуне впереди восемнадцати байских наездников. Но вот, точно очнувшись от забытья, он увидел впереди себя степной увал, усыпанный людьми. Было похоже, что навстречу подпаску катился пестрый вал: это толпы девушек, одетых в разноцветные бархатные камзолы, бежали навстречу. Они бежали, размахивая своими тонкими, гибкими руками, приветствуя победителя праздничных скачек.
И Ералы, прижавшись своим легким и хрупким телом к тугой, напружинившейся шее стригуна, теперь уже не торопил его ни плетью, ни окриком, а только вполголоса повторял одно и то же:
— Золотой мой Бала! Ой, мой Бала! Хороший! Яркие, как степные тюльпаны, камзолы девушек, цветные халаты седобородых степных патриархов и пестрые лохмотья джатаков — все смешалось, слилось в один радужный, красочный круг, похожий на ярмарочную карусель. А восторженный рев оглушал Ералы, и голова его кружилась, как от крепкого майского кумыса, и временами ему казалось, что он задыхался от радости и терял сознание.
Ералы не помнил, как вылетел на полном скаку из седла на распростертые руки джатаков. Кто-то схватил его на лету, как подбитую выстрелом птицу. Старая тюбетейка слетела с головы подпаска. А жеребенок вдруг присел на задние ноги, испуганно фыркнул и зашатался, точно ноги его заскользили по льду.
Ералы, окруженный толпой пастухов и подпасков, придя наконец в себя, вытер потное лицо рваным рукавом своей ситцевой рубашонки и запальчиво крикнул:
— Все видели, как скоро ходит Бала?!
Но в это мгновение толпа пастухов и подпасков, окружавших Ералы, вдруг шарахнулась от него в сторону, и восторженный гул людской речи внезапно оборвался. Тогда Ералы, ощутив в сердце тревогу, бросился со всех ног следом за пастухами и подпасками и, с трудом протиснувшись сквозь их притихшую толпу, остолбенел, увидев распластавшегося на траве стригуна.
Жеребенок лежал плашмя, не двигаясь и как будто даже не дыша. Его передняя нога с белым пятном над щеткой, слегка изогнувшись, упиралась своим молочно-розоватым копытом в пушистую грядку дороги. Из судорожно вздрагивающих ноздрей текли жидкие струйки желтой пены. Ералы, бросившись к стригуну, приподнял руками его горячую морду и крикнул:
— Вставай! Вставай, золотой мой Бала! Вставай, мой хороший!
Стригун посмотрел на мальчика своими печальными большими глазами и тотчас же снова прикрыл их, слабо вздохнув при этом, как человек, которому было теперь очень и очень худо. Полусогнутая в коленке тонкая нога стригуна чуть заметно подрагивала, и Ералы казалось, что из-под густых ресниц жеребенка показались крупные, как горох, слезы.
Подпасок сидел около стригуна на корточках, похолодев от тревоги. Мальчик даже не обернулся на голос окликнувшего его старого баксы — лекаря Чиакпая. Чиакпай, осторожно оттолкнув в сторону подпаска и присев около стригуна, долго ощупывал тонкими, гибкими пальцами холку жеребенка.
Стригун сделал еще два-три едва уловимых движения головой, передернул острыми ушами и, весь вытянувшись, замер. Его полузакрытый глаз, подернутый холодной и мутной пленкой, отсвечивал теперь отраженным, неживым, тусклым светом.
И старый баксы, скорбно вздохнув, сделал неуловимое движение рукой, а потом, поднявшись на ноги, молча отошел в сторону.
Ералы подбежал к старому лекарю и, заглянув в его скорбное лицо, все понял.
Толпа джатаков продолжала неподвижно и молча стоять над распростершимся среди дороги стригуном. И Ералы слышал, как кто-то сказал:
— Веселый праздник Уразайт для джатаков окончен. По степи Сары-Дала прошел хабар: джатакский скакун Бала обогнал восемнадцать байских скакунов и умер в конце дороги…
…Ночь пришла с ароматом трав и жемчугом рос, с перепелиным щелканьем и чистым, как слеза новорожденного, молодым месяцем. И снова заколыхались над степью огненные миражи огромных костров в байском ауле. Там веселились и пели захмелевшие от кумыса молодые, красивые, праздные джигиты. Там смеялись устало и сонно утомленные девушки. Далекое лошадиное ржание было похоже в такую пору на робкое журчанье степного ручья, и крик возвращающегося с байги всадника напоминал о крике незримой полуночной птицы.
Было уже поздно. А Ералы продолжал сидеть на корточках около своего неподвижного стригуна. Мальчик смотрел на полузакрытый, тускло поблескивающий под месяцем глаз жеребенка. Мальчику было жутко сидеть одному в ночной степи около мертвого жеребенка. Но подпасок не в силах был оторвать своих сухо блестевших глаз от густых ресниц стригуна и от его звезды на лбу, смутно белевшей под месяцем.
Но нот где-то далеко-далеко прокричал над займищем одинокий гусь. И подпасок, встрепенувшись от этого тревожного птичьего крика, вскочил и бросился со всех ног к аулу.
— Где наши люди?— спросил Ералы пастуха Сеимбста.
— Все собрались в юрте волостного управителя — аксакалы и джатаки. Иди и ты туда. Там решается спор О победителе сегодняшней байги,— сказал Сеимбет.
Когда мальчик робко вошел в огромную, увешанную дорогими коврами юрту, он увидел, что здесь было тесно от людей. На почетных местах восседали торжественные степные патриархи и аткаминеры, а в черном углу теснились джатаки.
Ералы, затаив дыхание, стал около двери. Приподнявшись на цыпочки, он увидел седобородого человека в дорогом халате с домброю в руках и узнал его — это был прославленный певец Абакан.
— На каш праздник пришел из рода Джучи знаменитый акын Абакан. Его знает вся степь,— сказал волостной управитель Альтий.
— А из рода Дулат пришел к джатакам другой акын. Имя его Кургай. Он стар своими песнями. Когда поет Кургай, в озерах перестает играть рыба и птица замирает на гнездах,— сказал слепой Чиграй.
— Тем лучше,— откликнулся с ехидной усмешкой Альтий.— Два акына — две песни. Пусть состязаются в этом айтысе два знаменитых певца степи. А мы послушаем и решим на совете старейшин, который из них поет лучше.
И певцы сели рядом. Один — в дорогом халате с нарядной домброй в руках — это Абакан. Другой — в поношенном, залатанном бешмете степного покроя и с такой же старой, незавидной домброй в руках — это старый бродячий певец Кургай.
Абакан, ударив по струнам, долго прислушивался к их глухому ритмичному говору, а затем, запрокинув голову и полусмежив веки, запел:
— Камыши в урочище Курга-Сырт гремят от ветра, горят от солнца и рвутся к небу от воды. Слава всемогущего Альтия обгонит ветер, перелетит на серебряных крыльях через большое озеро Чаглы и заблестит под солнцем, подобно распластанным крыльям лебедя.
Веселый праздник Уразайт прошел по нашим аулам, и в самом славном из них — в ауле Альтия — было съедено двадцать восемь баранов. Наш прославленный волостной управитель не пожалел для гостей трех верблюдов и самого жирного быка. Гости выпили в юрте Альтия целое озеро священного кумыса. И никто не отнимет у гостеприимного хозяина этой степи его великого могущества и богатства.
Ибо нет в степи более знатного человека, чем Атьтий, и более богатого, чем он. Это его косяки не знавших узды, быстрых, как ветер, кобылиц кочуют по степным просторам. Это его красивые жены шумят на празднествах шелком своих камзолов и звенят золотыми монетами, вплетенными в темные, как осенняя ночь, и пышные, как майские травы, их волосы. Это от их сияющей красоты светло и днем и ночью в священной юрте нашего управителя. И я — странствующий певец степей — пою эту песню с полузакрытыми глазами, потому что блеск красоты и богатства ослепляет меня, и я не смею поднять своих век!