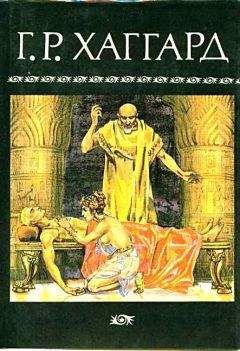Генри Хаггард - Луна Израиля
— Уверен… или, по крайней мере, другие уверены.
Она засмеялась; впервые за несколько новолуний я увидел, что: она смеется.
— Тогда я остаюсь, — сказала она. Джейбиз удивленно смотрел на нее.
— Я так и думал, что ты любишь этого египтянина, который и в самом деле достоин любви любой женщины, — пробормотал он в бороду.
— Может быть именно потому, что люблю его, я и хочу умереть. Я отдала ему все, что имела: от моего сокровища только и осталось то, что может навлечь беду или несчастье на его голову. Поэтому чем больше любовь — а она больше всех пирамид, если бы их сложить в одну, — тем больше потребности в том, чтобы похоронить ее на время. Понимаешь?
Он покачал головой.
— Я понимаю только одно — ты очень странная женщина, совершенно не такая, как все, кого я знал.
— Мой ребенок, убитый со всеми другими, был для меня всем на свете, и я хотела бы быть там, где он. Ну теперь понимаешь?
— И ты бы рассталась с жизнью, ты, еще совсем молодая, способная иметь еще много детей, ради того, чтобы лежать в гробнице вместе с твоим умершим сыном? — спросил он медленно, как человек крайне удивленный.
— Я хочу жить, только пока моя жизнь нужна тому, кого я люблю, а когда придет день и он вступит на престол, как сможет служить ему дочь ненавистных здесь израильтян? И детей мне больше не нужно. Мой сын, живой или мертвый, владеет моим сердцем, и в нем нет места для других. Эта любовь, по крайней мере, чиста и совершенна и, забальзамированная смертью, навсегда останется неизменной. Кроме того, я буду с ним не в гробнице — в это я верю. Религия египтян, которую мы так презираем, говорит о вечной жизни на небесах; туда я и пошла бы искать то, что потеряла, и ждать того, кто временно остался позади.
— Ах! — сказал Джейбиз. — Что до меня, то я не утруждаю себя этими вопросами: в нашей временной жизни на земле и без того много дела для рук и головы. Однако, Мерапи, ты ведь бунтовщица, а как принимает царь — небесный или земной, все равно — тех, кто восстает против него?
— Ты говоришь — я бунтовщица, — сказала она, повернувшись к нему, и глаза ее вспыхнули. — Почему? Потому что я не захотела бесчестья и не вышла замуж за человека, которого ненавижу, за убийцу, к тому же и потому, что я, пока жива, не покину человека, которого люблю, и не вернусь к тем, от кого видела только зло! Разве бог создал женщин для того, чтобы их продавали, как скот, ради удовольствия и выгоды того, кто может больше заплатить?
— Видимо, для этого, — сказал Джейбиз, разводя руками.
— Видимо, это вы так думаете, представляя себе бога таким, каким хотели бы, чтобы он был. Но я — я в это не верю, а если б верила, то поискала бы себе другого царя. Дядя, я обращаюсь против жреца и старейшин к Тому, что создало и их, и меня, и я буду жить или умру по его приговору.
— Весьма опасная позиция, — произнес Джейбиз, как бы размышляя вслух, — поскольку жрец имеет возможность взять закон в свои руки, прежде чем подсудимый успеет апеллировать к другой инстанции. Однако кто я такой, чтобы оспаривать ту, которая может стереть Амона в порошок в его собственном святилище, и поэтому кто может достоверно знать все, что она думает и делает.
Мерапи топнула ногой.
— Ты отлично знаешь, что именно ты передал мне приказ бросить вызов Амону в его храме. Это не я…
— Знаю, знаю, — возразил Джейбиз, махнув рукой. — Знаю также, что это именно то, что говорит каждый маг (каковы бы ни были его боги и его народ) и во что никто не верит. Именно потому, что ты, веруя, повиновалась приказу свыше и через тебя Амон был повержен, египтяне и израильтяне считают тебя величайшей из волшебниц, какие когда-либо существовали на берегах Нила; а это, племянница, — опасная слава!
— На которую я не претендую и которой никогда не добивалась.
— Совершенно верно, но она все равно пришла к тебе. Так что же
— зная (а я не сомневаюсь в том, что ты знаешь) обо всем, что скоро произойдет в Египте, и получив предупреждение (если ты в нем нуждаешься) об опасности, которая грозит тебе самой, — ты все-таки отказываешься повиноваться приказу, который я считаю своим долгом тебе передать?
— Отказываюсь.
— Тогда пеняй на себя и прощай. Да, хотел еще сказать тебе: там есть кое-какое имущество в виде скота и урожая с полей, которые принадлежат тебе по наследству от твоего отца. В случае твоей смерти…
— Возьми все себе, дядя, и да поможет оно твоему процветанию. Прощай.
— Великая женщина, друг Ана, и красавица к тому же, — сказал старый еврей, проводив ее взглядом. — Печально, что я никогда ее больше не увижу. Да и никто не будет смотреть на нее долго. Скорблю, ибо она все-таки мне племянница и я люблю ее. А теперь мне пора, тем более, что я выполнил данное мне поручение. Будь счастлив, Ана. Ты ведь уже не солдат, правда? Нет? Оно и к лучшему, как ты увидишь. Мое почтение принцу. Думай обо мне иногда, когда состаришься, и не поминай лихом, ибо я служил тебе, как только мог, и твоему господину тоже, — надеюсь, он вскоре вновь обретет то, что не так давно потерял.
— Ее высочество принцессу Таусерт, — предположил я.
— И ее, кроме всего прочего, Ана. Скажи принцу, если он сочтет мою цену слишком высокой, что эти лошади, которых я ему продал, действительно самых лучших сирийских кровей и что эту породу моя семья разводила в течение многих поколений. Да, если у тебя есть друг, которому ты желаешь добра, не дай ему уйти в пустыню в период нескольких ближайших новолуний, особенно если командовать войском будет фараон. Нет-нет, я ничего не знаю, но просто это пора у больших бурь. Прощай, друг Ана, и еще раз прощай.
Что же он хотел этим сказать? — думал я, направляясь к принцу, чтобы доложить о происшедшем. Но никакой ответ не приходил мне в голову.
Очень скоро я начал понимать. Оказалось, что наконец израильтяне действительно покидают Египет, огромная масса их, а с ними и , десятки тысяч арабов из разных племен, которые поклонялись их богу и были — некоторые из них — потомками гиксосов, пастухов, некогда правивших Кеметом. Что это действительно так, подтверждалось известием о том, что все еврейские женщины в Мемфисе, даже те, что были замужем за египтянами, ушли из города, оставив своих мужей, а иногда даже детей. В самом деле, перед их уходом несколько таких женщин, которые были подругами Мерапи, посетили ее и спросили, не уйдет ли она с ними. Покачав головой, она ответила:
— Почему вы уходите? Или вам так хочется скитаться в пустыне, что ради этого вы готовы навсегда расстаться с мужьями, которых вы любите, и с детьми вашей плоти и крови?
— Нет, госпожа, — ответили они плача, — мы счастливы в белоснежном Мемфисе и здесь, под журчание Нила, мы хотели бы состариться и умереть, вместо того, чтобы жить в пустыне, в какой-нибудь палатке вместе с чужими мужчинами или в одиночестве. Но страх гонит нас отсюда.