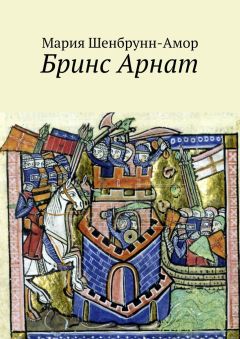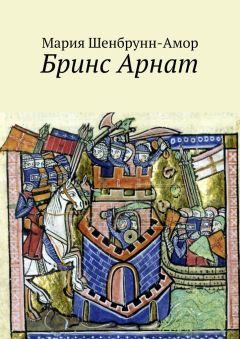Иария Шенбрунн-Амор - Железные франки
Констанция вспомнила судьбу Иоанна, не выдержала, схватила няньку за руку:
– Татик, уж не прокляла ли ты и моего Раймонда?
Грануш возмущенно выпрямилась, обиженно поджала губы:
– Господь с тобой, пупуш. Разве стану я проклинать того, с кем ты счастлива? Твоя любовь защищает его.
Констанция повеселела, сказала примирительно:
– Ай, балик-джан, это не мы думаем, что мы всех лучше, это Господь предпочитает верных сынов Римской католической церкви всем прочим! Но когда армяне встают под знамена франков, они убеждаются, что Христос может сделать для всех нас!
Грануш только презрительно выпятила нижнюю губу, но Констанция не сомневалась, что мамушка посердится и успокоится. Татик добрая и отходчивая.
Ужасный тот ковер Констанция с тех пор не видала и ничего из тех вещей себе не взяла. Сокровища пошли на нужное, праведное дело защиты крепостей, и это самое важное.
Ника сидела в кафе на улице Бен-Иегуда, перед ней остывала уже вторая чашка какао, ее взгляд то и дело уплывал от экрана планшета туда, где за толстым стеклом кондиционированного аквариума жила, дышала соснами и выхлопными газами неряшливая, шумная, знойная пешеходная зона Иерусалима.
Посреди улицы совершало променад многочисленное семейство ортодоксальных евреев – высокая, худая жена в платке и длинном, глухом платье и семенящий рядом полный, низенький, широкобедрый муж в черном костюме и шляпе. За ними следовало множество их потомков, старшенькая опасливо толкала по скользким колдобинам каменных плит мостовой коляску с младшеньким. Библейское семейство останавливалось, завороженно любовалось ассортиментом каждого базарчика, нагло выплеснувшего на улицу пластмассовые игрушки, надувные круги, шелковые шарфики и дешевые подарочные наборы, но не решалось разорять скромный семейный бюджет ради этих дивных соблазнов.
Мимо витрин убогих лавчонок, где с прошлого века, а может и эры, были распяты все те же фланелевые рубахи, пылились залежи ширпотреба иудаики, тухли выцветшие коробочки косметики Мертвого моря и тускнели россыпи невзрачных колечек, неслась шумная, гогочущая группа американских подростков. У клетки для сбора пластиковых бутылок черный солдат-эфиоп с автоматом за плечом быстро ел капающее белое мороженое. На углу остановился бизнесмен, чтобы доходчивей спорить со своим мобильником, провожая взглядом длинноволосую девушку в мини-юбке. Уличный аккордеонист разливался на ступенях банка «Подмосковными вечерами», вверх по улице брели с кошелками возвращающиеся с рынка обношенные старухи-праматери, навстречу им деловито шествовали монахини-бенедиктинки.
Зигзагом неровной походки рассекал иерусалимскую толпу нищий пророк. Его растрепанные седые пряди реяли на ветру, развевались грязные лохмотья, он что-то громко кричал, по-видимому, призывая к покаянию, и вздымал в небо самодельный плакат. Никто, кроме скучающей Ники, не обращал на него внимания.
Худой синеглазый мальчишка с длинными светлыми локонами над торчащими ушами оторвался от остального выводка современного Авраама, промчался вприпрыжку мимо Никиного окна и вскарабкался на спину каменного льва, невозмутимо стоявшего в переулочке у затоптанной клумбы, в которой росли окурки, цвели две пластиковые бутылки и раскрывались навстречу ослепительному солнцу целлофановые пакеты.
Мать звала его, но шалун заметил, что Ника из глубины кафе следит за его подвигами, и принялся геройствовать: отчаянно махал руками, раскачивался на спине оседланного дикого зверя и делал вид, что не слышит истошных криков матери: «Ицхак! Ицхак!» Ника невольно улыбнулась ему, укротитель львов притворился, что не замечает ее восхищения.
Внезапно раздался оглушительный взрыв. Отчаянно затряслась и обрушилась лавиной града бронированная витрина. Нику отбросило к задней стене.
Когда она поднялась и подбежала к окну, по улице к месту взрыва сломя голову уже мчались несколько мужчин – солдат-эфиоп, бородатый еврей в молитвенном талите и бизнесмен. Разметало по мостовой разноцветную пластмассовую дрянь базарчика, на камне валялся, распахнутый, как рот в беззвучном крике, мобильник, толпа рассеялась. Только мать догоняла упущенную дочкой коляску с младенцем, несущуюся к площади Сиона.
На месте иерусалимского льва, на спине которого только что джигитовал маленький конопатый неслух, дымилась страшная черная яма.
Жуткий вопль сирены настиг улицу, обрывая сердце.
Лето 1143 года было жарким и блаженным. От полуденной духоты в саду никли розы, ящерицы прятались в расщелины каменной кладки, лениво журчали фонтаны, золотые рыбки недвижно зависали в тени зацветшего бассейна, парили над водой стрекозы, вяло жужжали шмели, вполсилы стрекотали цикады, солнце останавливалось на небосклоне. От зноя не спасали даже толстые стены замка и церквей. В сумерках с моря веял спасительный бриз, трепал женские платки, шуршал сухими верхушками пальм. По вечерам оживали и благоухали смолой сосны, тревожил терпкий, горький запах полыни, разносился аромат жасмина, заливались соловьи, квакали лягушки, оглушительно трещали кузнечики, в кустах шебаршили ежи, с небесного свода взирала ослепительная луна, а в ее отсутствие кружились и мигали звезды. На рассвете будило звонкое щебетание певчих птиц. На Рождество Иоанна Предтечи везде жгли костры, и до самого Дня Петра и Павла прихожане ходили на церковные службы с горящими факелами.
В летнем зное окончательно испарилась размолвка с Раймондом. В одну из шумных, дымных, пахнущих древесной гарью и смолой ночей шестнадцатилетняя Констанция зачала.
Прошлой зимой в лаодикейском изгнании скончалась грешная Алиса. Лекарь уверял, что от тяжкой простуды, а Грануш нашептывала, что люди, лишившиеся власти, долго не живут, ибо честолюбие, пожрав душу, поедает и их тела. Так или иначе, эта одинокая смерть забытой всеми женщины напугала и потрясла Констанцию сильнее, чем она ожидала. Она не допустит материнских ошибок, она все сделает иначе, она создаст из своей с Раймондом любви близких, дорогих людей, окружит себя, не имеющую ни сестер, ни братьев, ни родителей, родной плотью и кровью, станет нужной, навсегда любимой. Никогда больше Констанция не будет одинокой.
В сентябре, несколько ранее срока, разрешилась от бремени своим первенцем Изабо, подав даме Филомене и Грануш повод фыркать и красноречиво заводить глаза. Младенец, хоть и был недоношенным, оказался больше и тяжелее обычного. Роженица возлежала на подушках томная, гордая и с обычной своей болтливостью пересказывала княгине в мельчайших подробностях ужасы пережитых родовых мук, счастливая, что они остались позади. То, что она до дрожи пугала еще ждущую своего часа Констанцию, не приходило мадам де Бретолио в голову. Радостное облегчение новоиспеченной матери не мог притушить даже Эвро, еще более мрачный, чем обычно, с супругой обращавшийся нелюбезно, к васильковоглазому сыну равнодушный. Веселой подруге достался муж с тяжелым, злобным нравом.