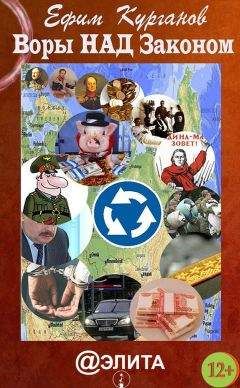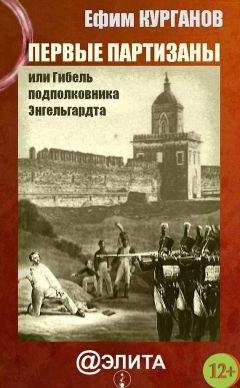Красавчик Саша - Курганов Ефим
А Боннэ молодчина, я щедро отблагодарю его. Он, кстати, рассказал мне одну довольно неприятную вещь. Будто Шотан бросил ему при встрече: «Я подпишу проект только из уважения к месье Стависскому. Ведь у него нет больше денег, я знаю. Так что все это бессмысленно, Жорж».
Господи, да будут, будут деньги, да такие, что весь Кабинет министров утонет в них. Лишь бы поскорее решился вопрос с венгерскими бумагами.
23 декабря, после обеда
Сегодня я завтракал с Романьино — это мой секретарь — очаровательный красавец, легкий и улыбчивый обладатель внушительных бицепсов.
Обычно веселый, тут он был понур как никогда, и даже его огромные сверкающие льдом глаза казались какими-то помертвевшими. Я даже слегка опешил. Но скоро все разъяснилось.
Романьино вытащил из кармана пальто скомканный листок газеты и с отвращением бросил его на стол. Это оказалась страничка из «Аксьон Франсэз» — мерзкой, отвратительной газетенки (увы, я так и не успел ни закрыть ее, ни изменить ее гадкое направление [6]).
Я разровнял мятый листок, начал изучать его, и вскорости мне стала совершенно понятна причина плохого настроения секретаря.
В сегодняшнем выпуске «Аксьон Франсэз» была напечатана заметка, в коей говорилось, что финансовая полиция всерьез занялась банком «Муниципальный кредит», негласным директором которого оказался, как выяснилось, «известный аферист Стависский».
Ознакомившись с этим скандальным и даже неприличным текстом (приличия — это вообще не для «Аксьон Франсэз»), я рассмеялся, хлопнул Романьино по плечу и, утешая его, сказал: «Не расстраивайся, мой мальчик. Ничего страшного. Ну, кто же станет принимать всерьез заявления «Аксьон Франсэз»?..» Но Романьино был неутешен.
К вечеру заметку перепечатали и другие издания, уже вполне как будто пристойные, если только современная французская пресса вообще может быть пристойной.
Однако я вовсе не расстраивался: главное — решение вопроса с венгерскими бумагами; всякая газетная возня рядом с этим просто меркла. И все же было не очень приятно, но я держался и более всего думал о предстоящем международном совещании союзников. Хотелось, чтобы дата его оказалась назначена на ближайшие дни: бумаги надо ведь спешно пускать в оборот.
К вечеру меня разыскал префект Кьяпп, мрачный как грозовая туча; причем настолько, что даже ни разу не улыбнулся мне, чего прежде с ним не случалось.
— Что-нибудь случилось, Жан? — осведомился я.
— Случилось! — рявкнул вдруг префект, потом нервно закурил и, сделав несколько глубоких затяжек, продолжил: — Меня вызывал сегодня месье Шотан. Он уже знаком с сегодняшними заявлениями прессы относительно вас и просит, пока скандал не утихнет, не приближаться ни к нему, ни к прокурору республики даже на пушечный выстрел, и никаких записочек в канцелярию премьер-министра не посылать. Я не шучу. Все это очень серьезно, Саша! Понятно?
Все же я никак не мог поверить в серьезность происходящего.
— Постой, Жан, — перебил я его. — Это все глупости. Ты мне лучше скажи — проект принят? На какое число назначена конференция?
Тут уже Кьяпп из тучи превратился в разразившуюся грозу. Он зарычал:
— Какая, к черту, конференция? О ней даже речи теперь быть не может!
Нет, я не верил в опасность. Отменять конференцию, от которой зависело и благополучие самого Шотана, из-за дурацкой заметки в «Аксьон Франсэз»?! Это казалось невероятным. Несусветной чушью.
Но когда Кьяпп рявкнул: «Даже не думай об этом!», до меня наконец дошло: что-то случилось и дела приняли неожиданно неприятный оборот. Хотя до конца так и не верилось, что мой прекрасный, многообещающий план вдруг полностью провалился. Окончательно и бесповоротно.
Как только префект ушел, я тут же бросился в канцелярию Шотана. Но мою записку на имя помощника премьера там вдруг принимать отказались и вообще глядели на меня с нескрываемым испугом. Приходилось все-таки признать: в воздухе запахло самой настоящей катастрофой.
Однако в силу природного жизнелюбия я не считаю, что все потеряно. Ведь венгерские бумаги — это спасение не только для меня, но и для очень многих, в том числе и для членов правительства. Я уверен: премьер Шотан все как следует обдумает, учтет несомненные выгоды моего плана, наплюет на этих журналюг… И международное совещание все же состоится!
23 декабря, глубокой ночью
Крайне огорчительно, но заметка в «Аксьон Франсэз» была только первою предвестницей боевой кононады. Сразу же за этой гнусной писаниной (просто тут же!) на меня обрушилась практически вся пресса Третьей республики, включая даже подконтрольные издания. И всюду замелькали мои потреты, с весьма малопочтенными подписями.
Это уже — война, самая настоящая, начатая без малейшего предупреждения. Причем во многие публикации каким-то образом проникли откровения директора байоннского банка Шарля Тиссье, сделанные им во время допросов. А он наболтал, увы, чересчур много лишнего.
Что же произошло вдруг? Почему буквально все ополчились на меня именно сейчас, перед рождеством нынешнего, 33-го года?
На самом деле, у меня масса предположений. Однако главное из них заключается в следующем.
Если прежде, а именно до декабря месяца, я был для большинства просто загадочным волшебником, создающим миллионы буквально из ничего, то из Будапешта я вернулся явно некоей политической фигурой, спасителем целого государства, пусть и небольшого. Потенциальным распорядителем уже не миллионов, а целых миллиардов франков (капитал Треста венгерских землевладельцев). Все это чрезвычайно вспугнуло моих недругов и вынудило их к объявлению открытой войны.
Что же делать мне в этих условиях? Не отчаиваться и скорее доводить до конца венгерские дела. В противном случае, и правда — конец.
24 декабря
Видел сегодня префекта Кьяппа (у меня более не хватает духу называть его верным). Он упорно настаивает, а вернее, даже требует, чтобы я незамедлительно (буквально сегодня же) оставил Париж — «на время», как он выразился, «только на время». Но самое грустное то, что это, как видно, указание самого премьера Шотана.
«Ты заработался, устал, — сказал Кьяпп. — Настала пора проветриться. Поезжай-ка в горы покататься на лыжах. За это время скандал поутихнет. Пока же о тебе должны тут забыть. Вот и надо исчезнуть». Префект повторял это как заученный урок, почти механически.
Да. как видно там, на самом верху, решили похоронить не только венгерский проект, но и самого меня. И из-за чего? Из-за какой-то паршивой газетной заметки? Невероятно. Немыслимо. Да, паскудное, вонючее печатное слово — выходит, все-таки сила, ежели сам премьер-министр Третьей республики его всерьез побаивается.
Устраняют меня от дел. Не иначе. Находясь в Париже, я еще смогу что-либо предпринять и для венгерского проекта и для собственного спасения. А в Савойе, в горах, в прелестном шале я буду бессилен. И придется лишь покорно дожидаться той участи, которую мне уготовили бывшие друзья мои…
Это подло: запереть меня, полного сил, идей и возможностей, в этой снежной дыре у подножия Монблана. Да, все-таки недооценил я человеческую неблагодарность. Правы французы, говоря: «Пусть Бог разделается с моими друзьями, а врагов я беру на себя». Предали меня, и как еще предали!
Придется ехать, и как видно сегодня же. Успеть хотя бы попрощаться с Арлетт. Бедняжка! На кого я ее оставляю?!
И вернусь ли? А ежели вернусь вдруг, то насколько живым? Может быть, Арлетт удастся лишь обнять мое холодное, остывшее тело?
Но это все гадания на кофейной гуще, и не более того. А пока что точно ждет меня одинокий рождественский вечер в тихом шале, на окраине прелестного Шамони.
А тут, в Париже, ясное дело, продолжится и будет возрастать в бешеном темпе оргия, раздуваемая этими продажными тварями — газетчиками, кидающимися на меня по указке вышестоящих воротил.