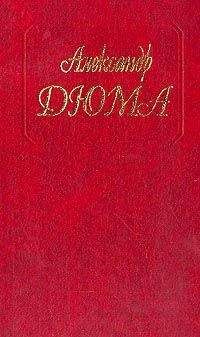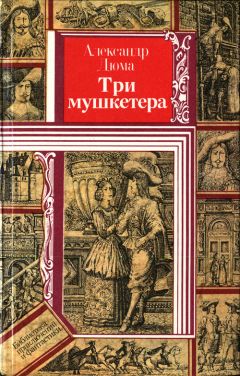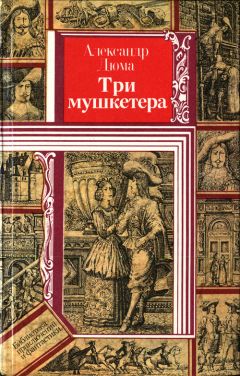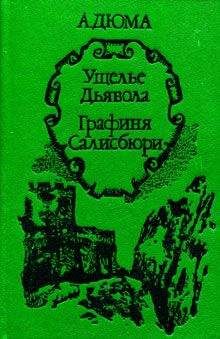Александр Дюма - Сан Феличе
Женщина эта была не кто иная, как дочь Марии Терезии, сестра Марии Антуанетты. То была Мария Каролина Австрийская, королева Обеих Сицилии, супруга Фердинанда IV, к которому — о причинах этого мы узнаем позже — она сначала относилась безразлично, потом — с отвращением, а затем — с презрением. В данный момент она находилась в этой третьей фазе (которой суждено было остаться не последней), и царственных супругов связывала лишь политическая необходимость, в остальном же они были совершенно чужды друг другу: король проводил время охотясь в лесах Линколы, Персано, Аспрони, а отдыхал в своем гареме в Сан Леучо; королева же в Неаполе, Казерте или Портичи занималась политикой с министром Актоном или отдыхала под сенью апельсиновых деревьев в обществе своей фаворитки Эммы Лайонны, которая в данную минуту лежала у ее ног как королева-невольница.
Достаточно было, впрочем, взглянуть на лежавшую, чтобы понять не только несколько скандальное благоволение, оказываемое ей Каролиной, но и неистовый восторг, внушаемый этой чаровницей английским живописцам (они изображали ее во всевозможных видах) и неаполитанским поэтам (они воспевали ее на все лады). Если человеческое существо вообще способно достичь совершенства в красоте, то им была именно Эмма Лайонна. В своих интимных отношениях с какой-нибудь современной Сапфо она, несомненно, действовала как наследница Фаона, которого Венера одарила склянкой с драгоценным маслом, чтобы он мог внушать необоримую любовь. Когда изумленный взгляд останавливался на ней, сначала он различал это дивное тело лишь сквозь сладострастную дымку, как бы исходившую от него; потом взгляд постепенно прояснялся, и ему являлась богиня.
Попробуем описать эту женщину, опускавшуюся в самые глубокие бездны нищеты и поднявшуюся до самых сияющих вершин благосостояния, женщину, которая ко времени, когда она предстает перед нами, могла бы потягаться умом, изяществом и красотой с гречанкой Аспазией, египтянкой Клеопатрой и римлянкой Олимпией.
Она достигла — или, по крайней мере, так казалось — того возраста, когда женщина вступает в пору полного расцвета. Взору того, кто внимательно вглядывался в нее, с каждым мгновением все полнее открывалось ее бесконечное очарование. Лицо ее, нежное, как у еще не вполне созревшей девушки, обрамляли пряди темно-русых волос; лучистые глаза, оттенок которых не поддавался точному определению, блестели из-под бровей, словно выведенных кистью Рафаэля; шея была белоснежна и гибка, как у лебедя; плечи и руки своей округлостью и нежностью, своей чарующей пластичностью напоминали не холодные статуи, вышедшие из-под античного резца, а восхитительные, трепещущие создания Жермена Пилона, причем не уступали античным в своей законченности и в изяществе голубых прожилок; уста у нее были как у крестницы феи, той принцессы, что с каждым словом роняла жемчужину, а с каждой улыбкой — алмаз; уста эти казались ларчиком, хранящим бесчисленные поцелуи. В отличие от великолепного наряда Марии Каролины, на ней был простой кашемировый хитон, белый и длинный, с широкими рукавами и полукруглым вырезом наверху — наподобие греческого, на талии он был собран в складки красным сафьяновым пояском, затканным золотыми нитями и украшенным рубинами, опалами и бирюзой; застежкой пояску служила великолепная камея с портретом сэра Уильяма Гамильтона. Поверх хитона была наброшена широкая индийская шаль переливчатых оттенков с золотой вышивкой; на интимных вечерах у королевы эта накидка не раз служила Эмме при исполнении придуманного ею «танца с шалью», в котором она достигала такого волшебного совершенства и такой неги, что с ней не могла бы сравниться ни одна искусная танцовщица.
В дальнейшем мы расскажем читателю о странном прошлом этой женщины. Здесь же, в чисто описательной вступительной главе, мы можем уделить ей, хоть она и играет большую роль в нашем повествовании, лишь несколько строк.
Третья группа, как бы пара предыдущей, находилась справа от тех, кто окружал короля, и состояла из четырех человек; тут было двое мужчин разного возраста, беседовавших о науках и политической экономии, и бледная, грустная, задумчивая молодая женщина, качавшая на руках и прижимавшая к сердцу грудного ребенка.
Пятая особа, не кто иная, как кормилица младенца, полная, свежая женщина в наряде крестьянки из Аверсы, стояла в тени, но и там, помимо ее воли, выделялись блестки ее украшенного золотым шитьем корсажа.
Младший из двоих мужчин, блондин лет двадцати двух, еще безбородый, был предрасположен к ранней полноте, которой впоследствии, под влиянием яда, суждено было смениться смертельной худобой. На нем был мундир небесно-голубого цвета, расшитый золотом и увешанный орденами и медалями; то был старший сын короля и королевы Марии Каролины, наследник престола Франческо, герцог Калабрийский. От природы застенчивый и добрый, он был напуган политическими крайностями матери, ушел в литературу и науки и не требовал ничего иного, как только возможности оставаться в стороне от политической машины, страшившей его.
Собеседник его казался человеком важным и холодным, ему было лет пятьдесят с небольшим; то был не совсем ученый в итальянском значении этого слова, а гораздо более того — человек просвещенный. На его довольно скромном фраке виднелся всего лишь один орден — Мальтийский крест, что может быть пожалован только человеку из знатного рода, известного не менее двухсот лет. И действительно, то был знатный неаполитанец кавалер Сан Феличе, библиотекарь принца и придворный принцессы.
Принцесса (с нее нам, пожалуй, следовало бы начать описание), та самая молодая мать, которую мы кратко обрисовали, прижимала своего младенца к сердцу, словно предчувствуя, что ей скоро предстоит покинуть этот мир. Как и ее свекровь, она была эрцгерцогиня из надменного рода Габсбургов; звали ее Клементиной Австрийской. Пятнадцатилетней девушкой она уехала из Вены, чтобы повенчаться с Франческо Бурбонским, и то ли она оставила на родине какую-то привязанность, то ли разочаровалась в том, что нашла здесь, но никто, даже ее дочь, если бы она по возрасту своему способна была понимать и говорить, не мог бы сказать, что хоть однажды видел улыбку на ее лице. Этот северный цветок, едва распустившись, увядал под жгучим южным солнцем; ее печаль была тайной, и принцесса медленно умирала от нее, не жалуясь ни людям, ни Богу; казалось, она знала, что приговорена, и, будучи благочестивой и невинной, примирилась со своей участью искупительной жертвы, страдая не за свои собственные, а за чужие грехи. Бог, для воздания справедливости располагающий вечностью, иногда допускает такие противоречия, непостижимые с точки зрения нашей преходящей и неполной справедливости.