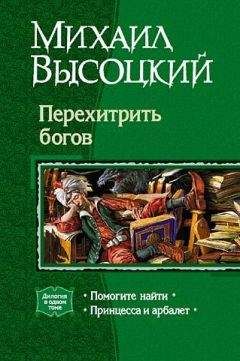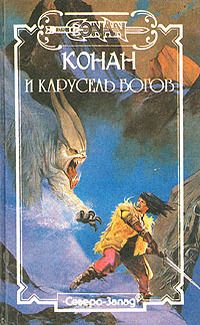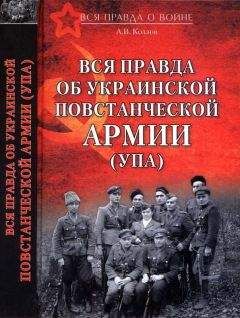Владимир Балязин - Дорогой богов
«А как звали старика, ты не знаешь?» — спросил я.,..
«Петр Алексеевич Луцкий», — ответил Володя.
Начал я с того, что переписал к себе в рабочую тетрадь все, что смог разобрать без особого труда. Может быть, я смалодушничал и взялся сначала за самую легкую работу, но оказалось, что поступил я правильно, потому что вскоре передо мной возникли какие-то смутные очертания того, о чем рассказывалось в этой тетради.
На одной из первых страниц мне удалось разобрать малопонятный перечень, напоминающий интендантскую ведомость:
«Казенных денег взято 6 тыщ 827 рублей с полтиною, да у Черного 217 рублей. Да взято соболей 199, да пороху пять пудов, да ружей 25, да провианту всякого пудов с четыреста, а пушек 3, да мортира одна».
Дальше в перечне значилось вино и шпаги, бочки и поповские ризы, топоры и лопаты, корабельный секстант и множество другого самого разного добра.
На нескольких вложенных в тетрадку листочках были написаны ровные строчки, расположенные колонкой, так, как обычно записывают стихи. К тому же написаны эти стихи были по-французски. Я попросил учительницу французского языка из нашей школы попробовать перевести их. Через несколько дней она принесла мне листок обратно с приложенным к нему переводом.
Вот как перевела она это стихотворение:
И в этой жизни пет таких несчастий,
Каких бы я не знал. Таких обид,
Каких бы я не вытерпел. Ко мне
Несправедливы были власти мира,
Над нами вознесенные судьбою,
Несправедливой также. Я всю жизнь
К столбу позорной бедности прикован,
Когда ж я отрывался от него,
Меня к нему обратно привлекала
Гонителей безжалостных рука.
Разумеется, я сразу же спросил: известен ли ей автор, читала ли она когда-нибудь раньше эти стихи? Но она ответила, что стихов этих ей встречать не приходилось, хотя чувствуется, что написал их отнюдь не новичок в поэзии.
Однако то, что она сообщила, не сильно меня утешило.
Читая отдельные страницы, я недоумевал все больше и больше.
Вот, например, хорошо сохранившийся фрагмент записи:
»…И привезли рыбы и раков круглых, небольших, белых, а как раков чистили, тогда нашли у них в пузырях самые чистые чернила, которыми мы и писали».
А вот другой:
«Иван Логвинов был ранен тремя стрелами. Он умер через полчаса после того, как его принесли на корабль».
Далее автор рукописи сообщал, что «Лулу — бабочка синего цвета. Она есть добрый дух Долины… „, что «Сражение Гох-Кирхена прусский король проиграл. Он едва избежал плена и если бы не туман, то кто знает, удалось ли бы Фридриху ускакать от австрийских гусар“.
Я узнал также, что некий король Хиави сказал некоему Махертомпе: «Я не хотел войны, но ты ее начал. Я приду на поля сафирубаев и отберу эти поля для бецимисарков и для тех кто помог мне воевать с тобой и победить тебя… „ И вдруг: «Почему так болит сердце, когда вспоминается все, что было раньше? Ведь вся Камчатка, может быть, самое гиблое место на земле, а ичинский приход — самое забытое богом место на всей Камчатке. И все же почему так болит сердце?“
На одной из страничек хорошо была видна следующая фраза: «Японцы повисли на канате, и тогда Кузнецов ударил по канату топором, после чего японцы попадали в воду и, влезши затем в лодки, поспешили к берегу…»
Я перечитывал эти отрывки раз за разом и ничего не мог понять.
Дальше дела пошли еще хуже. Я узнал, что французский король Людовик XV выдал учителю патент на право свободной торговли, что Джон Плантен, стоя на носу лодки, на прощание долго махал шляпой. Кроме того, я узнал, что золотая сицилийская монета онца более чем в два раза дешевле генуэзской доппии и ровно в десять раз дешевле испанского дублона. А когда, наконец, автор рукописи доверительно сообщил мне, что камер-лакею регентши Анны Леопольдовны, Турчанинову, вырезали язык и что на острове Формоза воду держат в долбленых тыквах, я вконец запутался и решил до поры до времени рукопись не трогать, а разобраться хотя бы в том, что мне уже известно.
«Ну хорошо, — думал я. — Представим себе, что это описание какого-то путешествия. Отправной точкой во времени может послужить указание на то, что какие-то японцы ухватились за какой-то канат. Судя по всему, это был якорный канат, причем, скорее всего, русского судна. Иначе почему по канату ударил какой-то Кузнецов. Уцепиться за якорный канат русского судна японцы не могли раньше 1805 года, потому что первый русский корабль пришел в Японию в 1805 году под командованием капитана Ивана Крузенштерна. Если это так, то наш автор не должен был вслед за событием, которое не могло произойти раньше 1805 года, писать об аудиенции у короля Людовика XV, умершего лет за тридцать до выхода в море эскадры Крузенштерна. И, кроме того, странным казалось, что французский король вдруг выдал патент на право торговли какому-то учителю. Еще непонятнее казался эпизод с неким Джоном Плантеном, который, стоя на носу лодки, долго махал шляпой, так как после долгих поисков я установил, что такое имя носил командор пиратской республики на острове Святой Марии, но он скончался, когда Людовику XV было десять лет. Если бы передо мной была рукопись современного писателя-фантаста, можно было бы предположить, что наш герой совершает путешествие во времени и свободно перемещается из девятнадцатого века в восемнадцатый. Но вид рукописи и все те ее признаки, о которых я уже говорил, не позволяли считать тетрадь современной. Иногда мне вспоминались шутливые слова немецкой песенки, которые произнес Володя Клачков, вручая мне тетради: „Все быть может, все быть может. Все на свете может быть. Одного лишь быть не может — то, чего не может быть“.
И порой мне начинало казаться, что всего того, о чем написано в тетради, никогда не было, потому что действительно то, чего не может быть, на свете не бывает. Но такого рода сомнения проходили, как только я находил подтверждение тому или иному эпизоду. И я продолжал читать, да что там читать — букву за буквой и слово за словом изучать и расшифровывать, не то чей-то дневник, не то чьи-то воспоминания.
Долго ломал я, голову над загадками, доставшимися мне в наследство. Но в конце концов, как это ни ущемляло мою гордость, сознался, что без посторонней помощи мне в этом деле не обойтись.
С тех пор прошло более четырех лет. За это время мне все-таки удалось кое-что распутать во всей этой сугубой неразберихе. Я бы сильно ошибся, если бы сказал, что это было легко и просто.
Четыре отпуска просидел я в библиотеках и архивах, обложившись ворохом документов и книг, пока не нашел наконец ответы на многие довольно каверзные вопросы, заданные таинственным автором старинной рукописи.