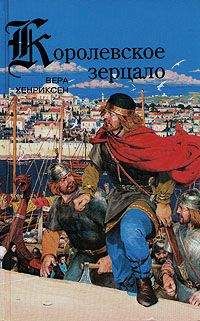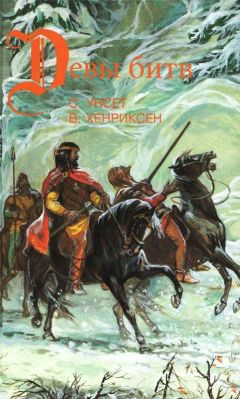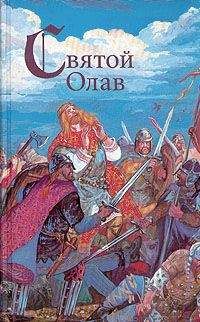Вера Хенриксен - Сага о королевах
— Я не знаю, — сказал я. — Может, я неправильно веду себя. Я не вижу возможности освободить вас. И я не вижу, каким образом я могу улучшить вашу жизнь. Ни я, ни Гуннхильд не будем жить вечно. И что случиться после нашей смерти с рабами, которые привыкнут вести себя как свободные люди?
Я помолчал и продолжил:
— Тогда ваша жизнь станет невыносимой. И что будет с твоими детьми, Лохмач?
Он ничего не ответил. Когда он выходил из палат, я заметил, как он сгорбился.
За последние годы я понял, как мало могу сделать для других людей.
Что касается законов, то их можно только немного подправить и сделать более четкими, чтобы избежать неточностей в толковании. Но в вопросе законов последнее слово всегда остается за лагманном. И я не думаю, что Эгиль Эмундссон чем-то отличается от других лагманнов.
Он честный и умный судья — в рамках той справедливости, что он считает истинной. Я очень благодарен ему за помощь в составлении письма Гуннхильд о моем освобождении — он подчеркнул в нем, что я никогда не был рабом, а был в рабстве несправедливо. Но изменить что-либо в законе для него невозможно. Новые законы он может принимать только, когда возникнут новые условия.
И еще я понял, что ничем не смогу помочь введению христианства в Швеции. Христианство будет принято гаутами, когда придет его время, но не раньше.
Я начал понимать епископа Эгина, который решил сжечь капище. Оно стояло как символ прошлого, связывавшего всех жителей Ёталанда — как язычников, так и христиан. Кроме того, после сожжения капища никто не потрудился его восстановить. Но епископ ошибался, когда думал, что сможет таким образом отвратить людей от языческих богов. Они по-прежнему продолжали приносить жертвы Одину и Тору.
Постепенно я начинал чувствовать сожаление, что не могу выступать в роли священника.
Только как священник я могу врачевать душевные и телесные раны паствы. Только как священник я могу найти слова утешения для скорбящих.
Все с большим удивлением наблюдали за нами с Гуннхильд, когда узнавали, что у нас есть друзья среди рабов. Никто даже представить себе не мог, что можно на равных разговаривать с рабом.
Но сейчас я вновь возвращаюсь к внешним событиям нашей жизни.
Летом прошлого года конунг Эмунд потерял своего единственного сына в викингском походе. Конунг решил, что это наказание, посланное Богом, за его неуважение к архиепископу Бременскому и Гамбургскому, ведь в свое время Эмунд прогнал Адальварда из страны.
Эмунд обратил свой гнев против епископа Осмунда, и послал гонца за новым епископом из Саксонии.
Так к нам вернулся епископ Адальвард.
Затем, осенью, случилось событие, изменившее всю нашу жизнь.
В Хюсабю приехал гонец с известием о смерти конунга Эмунда. Он привез и письмо Гуннхильд.
Письмо было от Стейнхеля, мужа дочери конунга Эмунда. Стейнхель просил Гуннхильд и меня поговорить о его деле с гаутами. Сложность заключалась в том, что свеи хотели короля из рода Лодроков, и для того, чтобы получить престол, Стейнхелю была необходима наша поддержка.
Мы направились в Скару в гости к Эгилю Эмундссону.
Он созвал тинг. На нем было решено, что если гауты помогут Стейнхелю стать шведским конунгом, то положение их упрочится.
Было также решено отправить представителей гаутов в Свитьод. Вместе с Гуннхильд и мной в дорогу отправился Эгиль. Сопровождала нас большая дружина.
В Свитьоде мы добились успеха.
Ауты впервые получили возможность решать, кто будет править в стране.
А у нас с Гуннхильд были и еще свои разговоры с конунгом Стейнхелем.
О Хюсабю. Дело в том, что Хюсабю был королевской усадьбой и Гуннхильд договорилась с Эмундом, что может жить там. А Эмунд получил право пользоваться ее собственными усадьбами в Швеции. Стейнхель не возражал, чтобы так продолжалось и дальше.
Кроме того, ему хотелось познакомиться со мной.
Конунг Эмунд не очень-то радовался замужеству Гуннхильд, сказал Стейнхель. Но ничего поделать с этим конунг не мог. А затем он услышал, что меня уважают на Ёталанде, но ему не нравилось, что я пытаюсь объединить готов и тем самым усилить их положение в борьбе за влияние со свейями.
— Мне кажется, что это был единственный способ избежать борьбы, — сказал я.
— Да, и ты поступил правильно. Такого же мнения придерживается и епископ Адальвард, — ответил конунг. — Кроме того, ты спас епископа из Далбю, и тебе очень признателен за это сам архиепископ.
Мне это не очень понравилось — я не собирался оказывать услуг архиепископу. Кроме того, выкуп за епископа Эгина предложил Эгиль. И я сказал об этом конунгу.
Затем Стейнхель спросил меня о моей семье в Ирландии, и я рассказал все, что мог рассказать.
— Мне кажется, тебе есть смысл снарядить корабли и отправиться за наследством, которое причитается тебе по праву, — сказал конунг.
— Может, оно и так, — ответил я, — но не думаю, что мои родичи захотят мне его отдать.
— Я бы с удовольствием отправился в такой поход, — со смехом заметил Стейнхель.
В Свитьоде я поговорил и с епископом Адальвардом.
Не могу сказать, чтобы он очень мне нравился. В его глазах горел фанатический огонек истинного аскета. Я понял конунга Эмунда, который в свое время прогнал епископа из страны.
Тем не менее мне удавалось находить с ним общий язык — до тех пор, пока я не попросил позволения вновь стать священником.
Тут я выслушал такую отповедь, какую не слышал со времен своего приемного отца, Конна. Это неслыханно, что я, священник, женился. И еще более постыдно, что женатый человек просит разрешения отправлять службу в церкви. И совершенно возмутительно, что я женился на Гуннхильд, которой он сам советовал жить в воздержании. Чтобы искупить грехи — свои собственные и конунга Свейна.
Он благодарил меня за спасение жизни епископа Эгина, и это деяние во многом искупало мои грехи. Так что если мы с Гуннхильд станет жить по отдельности, то вполне возможно, что он и разрешит мне вновь стать священником.
Я ответил, что об этом не может быть и речи.
И я вспомнил строки из Песни Песен царя Соломона о лисах и лисенятах, которые читал в свое время Гуннхильд.
Только дома в Хюсабю Гуннхильд спросила, о чем со мной говорил епископ.
Я ответил, что ни о чем особенном.
Она внимательно посмотрела на меня.
Внезапно я понял, что впервые за время нашего брака не ответил на вопрос Гуннхильд. И рассказал ей обо всем.
— Ты очень хочешь снова стать священником? — спросила Гуннхильд.
— Да. Очень. Ты помнишь наш разговор об искуплении вины и прощении? Ты сама сказала, что искупить вину можно только добрым поступком, а не наложением епитимьи и страданием.