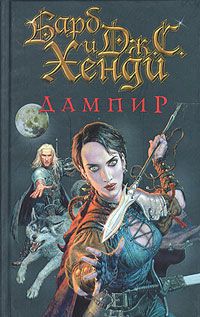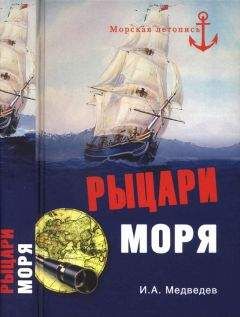Том Шервуд - Адония
Сделав круг, Адония вернулась к стоянке карет, расположенной в начале парада[12], уходящего в недра Плимута; оглянувшись по сторонам, вынула из-за лифа блестящий ключик, отомкнула дверцу одной из карет, не поднимаясь на ступеньку, достала с сиденья кувшин, отпила слабого молодого вина, закрыла кувшин, заперла дверцу. Постояла, задумчиво улыбаясь. Подумала: «Отчего это мне так хорошо?» Скользнула потеплевшим взором по мыкающемуся между карет стекольному господину, дрожащему над своим драгоценным ящиком, и вернулась к краю пристани, откуда начинала свой медленный бесцельный поход. Здесь стояла толпа, провожающая в далёкое плавание вскипевший белыми парусами трёхмачтовый грузный корабль. Сонмы солнечных зайчиков плясали, взблёскивая, на тревожимых тёплым озорным ветром волнах. «Нет, в самом деле, отчего так хорошо на душе?» И вдруг, повинуясь мысленному, устремлённому внутрь взгляду, восстала из близкой памяти ускользнувшая было причина: молодой босоногий художник сидел, склонившись, над куском белеющего картона, и закрывали его лицо длинные, слегка вьющиеся, медно-каштановые волосы, и маняще и звонко скрипел зажатый в его длинных, аристократически тонких пальцах бегающий по картону безжалостно испачкавший эти пальцы обточенный в цилиндр уголёк.
Повинуясь горячему призыву затрепетавшего сердца, Адония, слегка задев кого-то зонтиком, стремительно повернулась и помчалась, и полетела, – ах, нет, сдержанно, неторопливо пошла вдоль длинного грузового мола.
Вновь мимо грузчиков, лотка с сардиной, турка, распродавшего уже дожарившееся мясо и нанизывающего на вертельца новое, мимо оркестрика, обезьянки и попугая…
Когда она приблизилась к желтеющему дощечками полуразбитому ящику, юный художник как раз закончил портрет. Он выпрямился, встряхнув головой, отбросил назад прядь густых и длинных волос… Адония беззвучно застонала. Это был он – далёкий персонаж с полотна висящей в северном бастионе картины. Открытое, чуть удлинённое лицо, скупой абрис скул, обтянутых смуглой кожей, губы, потрескавшиеся от долгого сидения под солнцем. Мягкий взгляд спокойных, улыбающихся, серых глаз. Левой, чистой рукой художник отшпилил картон от подложенной под него дощечки и протянул портрет пьяненькому купцу. Адония приблизилась ещё на шаг, жадно взглянула. Безусловно, это была рука мастера. Выполненный в два цвета – рыжая охра и чёрный уголь – портрет сохранял безупречное сходство с персоной купца, но имел, кроме того, и мало кем из окружающих понимаемую особенность. При взгляде на самодовольную физиономию потного, терпеливо позирующего купца можно было убедиться, что он – человек «со всячинкой», – и щедр с друзьями, и плутоват в торговых делах, и способен всплакнуть от грустной мелодии, и мелкий тиран в семье, и исправный прихожанин в местной церкви… На портрете же он был изображён в свою лучшую, если можно так выразиться, половину. Только добрые, только светлые качества наполняли рисованные черты трезвого, мудрого, с ласковым взглядом, клонящегося к пятидесяти годам, прожившего трудную и честную жизнь человека.
Надменно выпятив нижнюю губу, пьяный купец свернул, старательно сведя края, рисунок в толстый цилиндр и, вытянув двумя пальцами из-за пояса монетку, величественно расплатился. Увидев, какая вздорная плата была получена художником за великолепный портрет, Адония задохнулась от возмущения. Но художник, весело подкинувший монетку на обсыпанной угольной крошкой ладони, радостным голосом проговорил:
– Счастливый день! И ночлег есть сегодня, и ужин!
Вдруг взгляд его отлетел от монеты и устремился к лицу стоявшей неподалёку под тенью кружевного зонта девушки в белом платье. Адония, потеряв дыхание и опустив взгляд, в непонятной ей самой панике отшатнулась и, повернувшись, пошла вдоль мола, глядя перед собой слепыми глазами. Волна раскалённого жидкого солнца захлестнула её закричавшее от боли и радости сердце. О, как это сердце тянуло вернуться, постоять ещё хотя б миг рядом с пришедшим из её снов, соседствующим с колесом водяной мельницы добрым другом! Тянуло… И в то же время Адония с обречённостью понимала, что никакие силы в мире не заставили бы её сделать это. Почему это произошло – тайна, которую трудно облечь в слова, но это случилось. Жестокая и холодная, способная на любой поступок волчица под одним-единственным взглядом серых доверчивых глаз в один миг превратилась в трепетную, сгорающую от смущения девочку.
Не чувствуя ног, она вернулась к карете и, вопреки воплям сердца, не то что не возвращалась, но даже и не смотрела в сторону дальнего края мола.
Ночью она не спала. Мысленно забрав из бастиона и поставив перед глазами наполненное напевом ручья и шелестом тяжёлого колеса полотно, Адония, приблизив лицо к лицу сидящего на берегу ручья сероглазого мастера, в сдерживаемом напряжением всех душевных сил ликовании горячим шёпотом произносила: «Кто ты? О, кто ты?»
Она встала в четыре утра, когда небо едва начало синеть от приближающегося рассвета, устроилась за тяжёлым, грубым столом и стала смотреть в окно, видя перед собой море, каменный мол и отслуживший какому-то равнодушно выбросившему его хозяину полуразбитый, с жёлтыми дощечками, ящик. Проснувшийся через пару часов Рыло, увидев её бодрствующей, с лихорадочной поспешностью умылся, оделся и, не позавтракав, сообщил о своей готовности идти на «работу».
Кот
Днём в порт вошли три корабля, и ушли в плавание четыре. За ними нужно было следить, и Адония немного отвлеклась от воспоминаний о вчерашнем событии. Она старательно барражировала в толпе прибывших и отъезжающих суетливых людей, высматривая коричневый балахон, но пропавший в бристольском лесу старый монах так и не появился. А с приближением вечера вернулись и воспоминания, и властно захватили все её мысли.
Отдавшись во власть велений пустившегося вскачь сердца, Адония направилась к месту, где находился ветхий, с трогательно-жёлтыми дощечками ящик.
Художник был здесь. Он как раз складывал створки обшарпанного деревянного порт-папира с неиспользованными листами картона и весело переговаривался с сидящим на бухте каната грузчиком.
– Как сегодня дела, Доминик? – усталым голосом интересовался грузчик.
– Ужин есть, – весело отвечал ему сероглазый художник, показывая две маленькие монетки, – а вот ночевать придётся под шлюпкой!
С замиранием сердца Адония слушала этот незатейливый разговор и со жгучей завистью смотрела на возмутительно равнодушного к собеседнику грузчика. Как бы она хотела сидеть вместо него на этой мягкой бухте новенького несмолёного каната и разговаривать с человеком, который необъяснимо, нежданно оказался самым прекрасным и дорогим из всех живущих на свете людей! И вдруг – показалось ей это или нет?! – этот человек, сверкающий белозубой улыбкой, завязывая истрёпанные тесёмки порт-папировых створок, посмотрел на неё, и в миг утратил и весёлость, и жизнерадостную улыбку, а высветилась на лице его тихая, тёплая радость. Адония поспешно перебросила взгляд с его лица на потемневшее к вечеру море и не ответила на взгляд незнакомого друга, и слёзы досады и сердечной боли проступили в уголках её глаз.