Камил Икрамов - Скворечник, в котором не жили скворцы. Приключенческие повести
— Картошка в мундирах, — сказал он.
— Небось остыла, — огорчился кто-то.
— Вроде теплая, — ответил Козлов.
— Подогреть можно, — сказал кто-то еще.
Из одного кармана у Семенова Александр Павлович извлек бутылку постного масла, из другого — луковки.
Масло никого не заинтересовало, его поставили на подоконник, зато лук вызвал общее оживление.
— Лук — это хорошо! Сало, лучок, огурчики — лучшая закуска.
Козлов похлопал Семенова по карманам, еще раз внимательно оглядел и доложил своему начальнику:
— Ничего опасного у арестованного не обнаружено. Я его лично хорошо знаю. Он из опасной семьи. Сестра его Эльвира повешена как заложница, а мать у доктора Катасонова работала. Та самая.
— Понятно, — сказал Сазанский. — Я так и понял все, когда услышал, что это ваш бывший сосед.
Козлов отвел Семенова за перегородку. Окон там не было, а выход только один — в самый барак. Сквозь широкие щели между горбылями в кладовку проникал свет, и Семенов увидел на нарах какого-то недвижного человека в буденовке.
Семенов сел у него в ногах и стал смотреть в щель между горбылями. У полицаев царило оживление, один резал колбасу, другой — хлеб, третий раскладывал перед каждой кружкой по три картофелины из зеленой кастрюли Семеновых. Гордеев сидел спиной ко всем над круглым цинковым тазиком и разделывал поросенка.
Александр Павлович очистил одну картофелину и протянул ее Сазанскому. Тот брезгливо оттолкнул руку Козлова и спросил:
— А соль у вас есть?
— Гордеев, — спросил Александр Павлович в свою очередь, — соль принес?
— Забыл! — бодро ответил тот. — Хрен ее знает, как забыл. Сало зато соленое есть и огурчики.
Семенов вспомнил, что соль, отсыпанная в газетный кулечек, до сих пор у него в кармане. Козлов почему-то не обратил на это внимания. «Хорошо хоть, что у них соли нет, — подумал Семенов. — Пусть без соли картошку едят».
Однако полицаи сильно не печалились. Они уже выпили по одной, по первой, «по маленькой», весело переговариваясь, острили.
Юрка Гордеев вдруг поднял голову от тазика и крикнул во всю глотку:
— Глухой!
Человек, дотоле неподвижно лежавший на нарах, слегка шевельнулся.
— Глухой! — опять крикнул Гордеев.
Человек в буденовке приподнял голову и подобрал под себя ноги в подшитых валенках.
— Глухой! — Голос Гордеева звучал все более требовательно.
Человек в буденовке встал с нар и двинулся на зов.
«Наверное, это его кличка, — понял Семенов. — Может, он тоже арестованный?» Семенов опять прильнул к щели.
— Глухой! — еще раз позвал Гордеев.
Полицаи смотрели на своего дневального с интересом и чего-то ждали. Тот подошел ближе и тихо спросил:
— Чего надо?
— Не слышу, — сказал Гордеев и показал на свои уши.
— Зачем звал? — громче повторил дневальный.
— А я не звал, — засмеялся ему в лицо Гордеев. — Я петь собрался. — И он заорал во всю глотку:
Глухо-ой не-ве-до-о-мой тайгою,
Сиби-и-ирской дальней стороно-ой
Бежал бродя-а-ага с Сахали-ина…
Полицаи хохотали от всей души.
Глухой медленно повернулся и, шаркая валенками по грязному полу, побрел обратно в кладовку. Он сел рядом с Семеновым и грустно сказал:
— Это они давно придумали. Не сейчас. Я ведь знаю наперед, как будет, а делаю вид, что не знаю. Они меня бьют, если я не играю с ними.
— Глухо-ой! — будто в подтверждение этих слов, крикнул теперь Александр Павлович. — Глухо-ой!
Каждому полицаю хотелось сыграть в эту игру. Они пили, слушали патефон, сами пели, но время от времени кто-нибудь вдруг истошно орал:
— Глухо-ой!
И человек со слезящимися глазами, медленно шаркая валенками, шел к своим мучителям.
Патефон был хороший, новенький, пластинки тоже. Без шипенья неслись песни, которые Семенов слышал совсем недавно, но это недавно было теперь за пропастью, которую никому уже не переступить.
Ну-ка, чайка,
Отвечай-ка:
Друг ты или нет
Ты поди-ка,
Отнеси-ка
Милому привет…
Это перед самой войной был фильм про моряков и про любовь.
Семенов старался не думать про снежную, мокрую ночь и карьер, на дне которого были мама и тетя Даша. Он думал о том, что люди, которых он видел теперь перед собой, еще недавно ничем не отличались от других людей, ходили по тем же улицам, ели тот же хлеб, пели те же песни, что и все остальные. И все же, наверное, чем-то очень отличались от остальных. Конечно, отличались, как же может быть иначе? Семенов вспомнил, что дед Серафим говорил ему об Александре Павловиче, когда они возвращались со станции. Дед, конечно, ошибался: никогда прежде Козлов не был связан с фашистами, не был он их шпионом и не собирался им быть. И ничего он не знал наперед. Ничего не знал, дурак подлый, ему и знать ничего не надо — он всегда ко всему приспособится и присосется.
На подоконнике, недалеко от двери кладовки, лежало несколько немецких автоматов. Как хорошо, если бы один из них оказался здесь, в кладовке! Тогда все было бы просто: осторожно раздвинуть доски, вставить дуло вот в эту щель, прицелиться чуть выше стола, за которым сейчас пьют и жрут полицаи, нажать гашетку и повести дулом слева направо, а когда поведешь справа налево, то взять уже чуть ниже стола.
Семенов не сомневался, что рука у него не дрогнет, однако автоматы лежали далеко от двери. Схватить один из них и юркнуть обратно в кладовку было невозможно. Да и дверь скрипела ужасно.
«Это невозможно, — думал Семенов. — Это невозможно! Но если бы каждый советский человек, выбрав удобный момент, мог ценой собственной жизни уничтожить десять предателей, то война кончилась бы очень скоро». Его мысли вновь завертелись вокруг тех оптимистических подсчетов, которые он впервые сделал на площади перед клубом, когда увидел новую афишу Леонарда Физикуса, на которой дрессировщик был во фраке и вместо хризантемы в петлице красовалась свастика.
Пластинок было всего две: одна — про чайку и про сердце девичье, другая — про Андрюшу и про Сашу, но заводили их почти беспрерывно. Полицаи все пьянели и все грустнели, поэтому Семенов удивился, когда Сазанский вдруг заорал:
— Глухой!
«Неужто они опять свою игру затеяли?» — с ненавистью подумал Семенов.
— Глухой!
— Господи, — прошептал глухой, спуская ноги на пол, — как им не надоест!
— Глухой! — опять крикнул Сазанский.

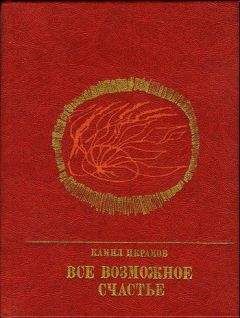

![Юрий Мишаткин - Особо опасны при задержании [Приключенческие повести]](/uploads/posts/books/133581/133581.jpg)