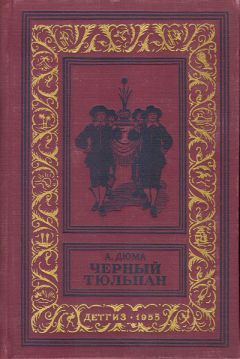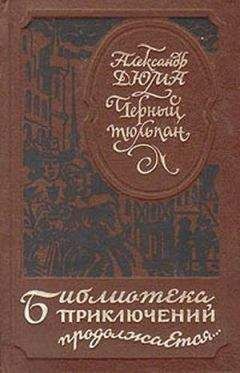Александр Дюма - Черный тюльпан
И мужественно, с высоко поднятой головой он последовал за офицером.
Корнелиус считал ступеньки, ведущие к площади, сожалея, что не спросил у стражника, сколько их должно быть. Тот, со своей услужливой любезностью, конечно, не замедлил бы сообщить ему это.
Приговоренный боялся только одного на этой дороге, на которую он смотрел как на завершение своего жизненного пути, — боялся, что он увидит Грифуса и не увидит Розы. Какое злорадное удовлетворение должно загореться на лице отца! Какое страдание выразится на лице дочери!
Как будет радоваться Грифус казни, этой дикой мести за справедливый в высшей степени поступок, совершить который Корнелиус считал своим долгом.
Но Роза, бедная девушка!.. Что, если он умрет, не увидев ее, не дав ей последнего поцелуя или, хотя бы, не послав последнего прости?
Неужели он так и не получит никаких известий о большом черном тюльпане и проснется на небесах, не зная, в какую сторону смотреть, стремясь его увидеть?
Чтобы не разрыдаться в такой миг, нужно было иметь вокруг сердца больше, чем aes triplex[11], как то приписывал Гораций мореплавателю, первым посетившему жуткие рифы Акроцеравния.
Корнелиус тщетно смотрел направо, Корнелиус тщетно смотрел налево, но он дошел до площади, не увидев ни Розы, ни Грифуса.
Он был почти удовлетворен.
На площади Корнелиус стал безбоязненно искать глазами стражников, своих палачей, и действительно увидел дюжину солдат: они стояли вместе и разговаривали. Стояли вместе и разговаривали, но без мушкетов; стояли вместе и разговаривали, но не выстроенные в шеренгу. Они скорее шептались, чем разговаривали, — поведение, показавшееся Корнелиусу не соответствующим той торжественности, какая обычно бывает перед подобными событиями.
Вдруг, хромая, пошатываясь, опираясь на костыль, из своего помещения появился Грифус. Взгляд его старых серых кошачьих глаз зажегся в последний раз ненавистью. Он стал осыпать Корнелиуса потоком гнусных проклятий, так что ван Барле вынужден был обратиться к офицеру:
— Сударь, я считаю неподобающим позволять этому человеку так оскорблять меня, да еще в такую минуту.
— Послушайте-ка, — засмеялся офицер, — да ведь вполне понятно, что этот человек зол на вас: вы, говорят, сильно избили его?
— Но, сударь, это же было при самозащите.
— Ну и оставьте его, — сказал полковник, философски пожимая плечами, — ну и пусть он говорит. Не все ли вам теперь равно?
Холодный пот выступил у Корнелиуса на лбу, когда он услышал этот ответ и воспринял его как иронию, несколько грубую, особенно со стороны офицера, приближенного, как говорили, к особе принца.
Несчастный понял, что у него нет больше никакой надежды, что у него нет больше друзей, и он покорился своей участи.
— Да будет так, — прошептал он, склонив голову. — С Христом поступали еще и не так, и, каким бы я ни был невиновным, мне с ним не сравниться. Христос позволил бы своему тюремщику ударить себя и не стал бы его бить.
Затем он обратился к офицеру, казалось любезно выжидавшему, пока он кончит размышлять.
— Куда же, сударь, мне теперь идти? — спросил он.
Офицер указал ему на карету, запряженную четверкой лошадей, весьма напоминавшую ему ту, которая при подобных же обстоятельствах уже раз бросилась ему в глаза в Бейтенгофе.
— Садитесь, — пригласил офицер.
— О, кажется, мне не воздадут чести на крепостной площади, — прошептал Корнелиус.
Но он произнес эти слова достаточно громко и стражник-историк, который, казалось, был приставлен к его персоне, услышал их.
По всей вероятности, он счел своим долгом дать Корнелиусу новое разъяснение, так как подошел к дверце кареты и, пока офицер, стоя на подножке, делал какие-то распоряжения, тихо сказал Корнелиусу:
— Бывали и такие случаи, когда осужденных привозили в родной город и, чтобы пример был более наглядным, казнили у дверей их дома. Это зависит от обстоятельств.
Корнелиус кивнул стражнику в знак благодарности.
Затем он подумал про себя: «Ну что же, слава Богу, есть хоть один человек, не упускающий случая сказать вовремя слово утешения».
— Я вам очень благодарен, мой друг, прощайте, — произнес он.
Карета тронулась.
— Ах, негодяй, ах, мерзавец! — вопил Грифус, показывая кулак своей жертве, ускользнувшей от него. — Подумать только, он все же уезжает, не вернув мне дочери.
«Если меня повезут в Дордрехт, — подумал Корнелиус, — то, проезжая мимо моего дома, я увижу, разорены ли мои бедные грядки».
XXX
ГЛАВА, ГДЕ ЧИТАТЕЛЬ НАЧИНАЕТ ДОГАДЫВАТЬСЯ, КАКАЯ КАРА БЫЛА УГОТОВАНА КОРНЕЛИУСУ ВАН БАРЛЕ
Карета ехала целый день. Она оставила Дордрехт слева, пересекла Роттердам и достигла Делфта. К пяти часам вечера проехали, по крайней мере, двадцать льё.
Корнелиус обращался с несколькими вопросами к офицеру, служившему ему одновременно и стражем и спутником, но заданные им осторожные вопросы, к его огорчению, оставались без ответа.
Корнелиус сожалел, что рядом не было того стражника, кто так охотно говорил с ним, не заставляя себя просить.
Он, по всей вероятности, и о происходящих странных вещах сообщил бы ему такие же приятные подробности и дал бы такие же точные объяснения, как и в первых двух случаях.
Карета ехала и ночью. На другой день, на рассвете, Корнелиус был за Лейденом, и по левую сторону его находилось Северное море, а по правую — залив Харлема.
Три часа спустя они въехали в Харлем.
Корнелиус ничего не знал о том, что произошло за это время в городе, и мы оставим его в этом неведении, пока сами события не откроют ему случившееся.
Но мы не можем таким же образом поступить и с читателем, имеющим право быть обо всем осведомленным, и даже раньше нашего героя.
Мы видели, что Роза и тюльпан, как сестра с братом или как двое сирот, были оставлены принцем Вильгельмом Оранским у председателя ван Систенса.
До самого вечера Роза не имела от штатгальтера никаких известий.
Вечером к ван Систенсу явился офицер; он пришел пригласить Розу от имени его высочества в городскую ратушу.
Там ее провели в зал совещаний, где она застала принца: он что-то писал.
Принц был один. У его ног лежала большая фрисландская борзая. Верное животное так пристально смотрело на него, словно пыталось сделать то, чего не смог еще сделать ни один человек: прочесть мысли своего господина.
Вильгельм продолжал еще некоторое время писать, потом поднял глаза и увидел Розу, стоявшую в дверях.
— Подойдите, мадемуазель, — сказал он, не переставая писать.