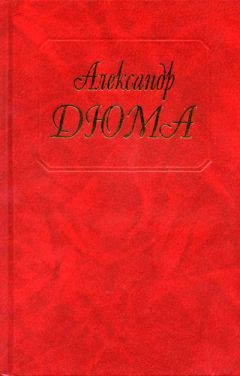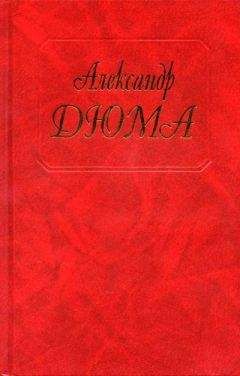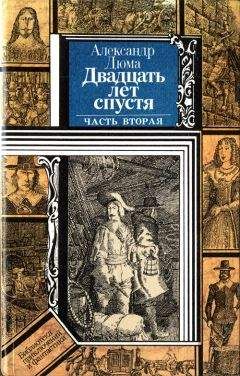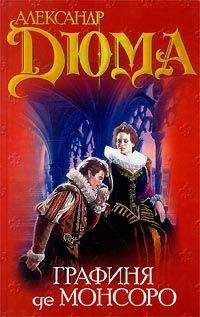Александр Дюма - Капитан Ришар
— Нет, но когда ты была ребенком, ты говорила так только тогда, когда тебе надо было за что-либо попросить прощения.
— Я ведь предупредила вас, что виновата, не так ли?
— Хорошо, я слушаю тебя.
— Вы часто говорили мне, — продолжала Лизхен, — что отцы наших отцов претерпели долгие и жестокие преследования за свою веру…
— Да, такое случалось во времена Лютера и Тридцатилетней войны.
— И часто, со слезами на глазах, вы рассказывали мне о тех людях, кто ценой своей свободы, своего состояния, даже своей жизни, давали убежище этим отверженным.
— Да, но в возмещение того, чем они рисковали на земле, Бог, как я надеюсь, приготовил им на небе место одесную себя.
— И вы не будете на меня сердиться, отец, если мое сердце разрывалось от жалости к одному человеку, которого преследования, подобные тем, о каких вы говорили, изгнали из его страны?
— К одному изгнаннику?
— Да, отец мой.
— А где он, этот изгнанник?
— Он только что был здесь, но теперь, надеюсь, он достаточно далеко.
— И чтобы рассказать мне об этом несчастном, ты подождала, чтобы он ушел?
— Прости, отец, — прошептала Лизхен неуверенно, — но этот несчастный…
— И что же?
— Это был…
— О! Я догадываюсь, — подхватил пастор, — это был француз, не так ли?
— Да, отец мой, француз; он служил при императоре Наполеоне и, после того как способствовал его возвращению с острова Эльба, вынужден был бежать из Франции.
— Ты хорошо сделала, последовав движению своего сердца, дитя мое, но плохо то, что усомнилась во мне.
— Вы бы приняли его так же, как и я, не правда ли?
— Без сомнения; разве жилище пастора не является естественным убежищем для изгнанников и бездомных? А сколько лет этому французу?
— Сколько лет?
— Да.
— Лет двадцать восемь или тридцать, отец.
— А! Так это молодой человек?
— Неужели я должна была прогнать его потому лишь, что он был молод? — спросила Лизхен.
— Конечно, нет! — сказал пастор, с беспокойством глядя на дочь.
— Почему вы так на меня смотрите, отец? — спросила Лизхен.
— Я ищу, — ответил пастор.
— Что, отец?
— Что ты сделала с тем букетиком фиалок, который был собран тобою сегодня утром на могиле твоей сестры?
— Я могла бы сказать, что потеряла его, — спокойно ответила девушка. — Но Боже меня сохрани от того, чтобы солгать моему доброму отцу! Эти цветы попросил у меня француз, и я их ему отдала.
— Лизхен! Лизхен! — воскликнул старик, качая головой. — До сегодняшнего дня я ставил мою дочь в пример остальным девушкам в городе…
— О! Я понимаю вас, отец, и отвечаю не краснея и не стыдясь: иностранец попросил у меня этот букет на память во имя признательности, и я отдала ему его в знак дружбы.
— Ты никогда больше не увидишь этого молодого человека? — спросил пастор.
— Наверно, отец… но…
— Но?..
— Он сказал, что надеется вернуться, и поставил срок своего возвращения — три месяца.
— Лизхен! Лизхен! Остерегайся!
— Его, отец? О нет!
— Дети его страны приносят нам несчастье, дочь моя!
— Что вы хотите сказать?
— Я хочу сказать, дитя мое, что сегодня не совсем обычный день, — продолжал пастор. — Сегодня шестнадцатое октября, печальная годовщина одной таинственной и преждевременной кончины!
— Да, смерти нашей бедной Маргариты!
— Мы уже не носим по ней траур, но тяжелое время, каким бы суровым и холодным оно ни было, не стерло из наших сердец память о ней!
— Нет, отец, и комната ее осталась такой же, какой была при ее жизни, это как бы храм, заключающий в себе память о ней.
— Память о жертве и о святой, дитя мое! Ты говорила мне только что о французах и спрашивала, откуда идет та ненависть, что я питаю к ним; так вот, сегодня, в день печали, я расскажу тебе, как была отнята у нас Маргарита, каким грустным путем отправилась на небо эта ангельская душа, подаренная мне твоей матерью.
— О отец, — спросила Лизхен, — что же это за ужасная история приключилась с моей сестрой, если три года спустя после ее смерти вы по-прежнему говорите о ней с таким волнением и так встревоженно?
— То, что с ней случилось, дорогое дитя, я хотел навеки оставить в тайне от тебя; но появление этого француза, которому ты помогла, это обещанное им и, быть может, ожидаемое тобой возвращение, заставляют меня ничего от тебя не скрывать… Если этот француз вернется, я скажу тебе: «Помни!», если он не вернется, я скажу: «Забудь!»
— О, говорите, говорите, отец мой!
Пастор на минуту опустил голову на руки, словно заглянул в прошлое, и, подавляя вздох, начал свой рассказ.
XXI
ВЗГЛЯД НАЗАД
— Мы должны вернуться на семь лет назад, моя дорогая Лизхен, — сказал старик. — Ты была еще милым ребенком и играла в куклы, когда объявили, что со стороны Регенсбурга приближаются французы, а со стороны Мюнхена — австрийцы.
— Да! Я отлично помню все это, отец! Я вижу на плато Абенсберга, со стороны руин старого замка, небольшой белый домик с виноградом над дверью и яблонями в глубине сада.
— Тогда ты должна помнить тот день, когда вошли австрийцы?
— Прекрасно помню! Я была в гостиной, возле моей сестры Маргариты и нашего друга Штапса, когда послышался далекий барабанный бой; одновременно с этим прошли студенты, распевая хором военный марш. Штапс, сидевший подле моей сестры, встал и, подойдя к окну, сделал знак поющим… Отец, что стало со Штапсом?
— Он был расстрелян, дитя мое.
— Расстрелян?! — воскликнула девушка, побледнев.
— Да, расстрелян.
— Где же?
— В Вене.
— А за что?
— За то, что попытался убить императора Наполеона.
— О! — произнесла девушка, уронив голову на руки. — Бедный Штапс!.. Но ведь это было ужасное преступление, отец? А почему он хотел убить императора?
— Потому что в его глазах это был поработитель Германии, дитя мое; кроме того, Штапс состоял в тайном обществе, а вступая в него, люди отрекались от своей собственной воли.
— Тогда, несомненно, отец, что это он стрелял в императора, и из-за этого потом разграбили и сожгли Абенсберг?
— Я его ни в коем случае не обвиняю, хотя все наши несчастья тогда и начались.
— Да, вы были ранены: вас подобрали среди мертвых, а с того самого времени до дня своей смерти Маргарита непрерывно плакала… Что же тогда случилось? Каждый раз, когда я хотела заговорить об этих событиях, вы отвечали мне: «Позже, дитя мое, позже».
— Так вот что тогда случилось. Может быть, Наполеон не придал большого значения той пуле, что пробила его шляпу, но генерал Бертье увидел в этом преступление, взывающее к отмщению: он приказал одному полку вернуться в Абенсберг и судить виновного, а при необходимости переложить на все селение ответственность за преступление одного человека. Полк вернулся, чтобы выполнить приказ генерала; но австрийцы уже взяли селение, только что оставленное французами. И кажется, в этом крылось самое главное: французы стремились его отобрать, австрийцы — удержать; этот день был ужасным! Наш дом был особенно забаррикадирован — совсем как крепость, и я был там, среди этих солдат, отчаянно рвавшихся в бой и считавших своим долгом защитить эту страну. Только я, мирный человек, убежденный, что все народы — братья и что у них у всех одна родина, качал головой и молился одинаково за друзей и врагов, за австрийцев и за французов. Они не поняли этого, бедные слепцы! Сочли, что раз я не за них, то против них. Они сунули мне в руки ружье и толкнули в самое пекло.