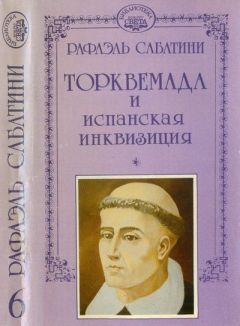Рафаэль Сабатини - Скарамуш
Знай Климена о беседе, которую в тот самый момент вели в замке Сотрон, она бы не смеялась так самоуверенно над мрачными предсказаниями отца. Однако ей так и не суждено было никогда узнать об этой беседе, и это было самым жестоким наказанием. Она винила во всех бедах, вдруг обрушившихся на неё, коварного Скарамуша и считала, что из-за этого негодяя рухнули её надежды на будущее и распалась труппа Бине.
Возможно, Климена не так уж не права, поскольку даже без предостережения господина де Сотрона неприятные события того вечера в Театре Фейдо могли вызвать у маркиза желание порвать эту связь. Что же до труппы Бине, то, разумеется, случившееся было делом рук Андре-Луи — правда, он не только не стремился к такому результату, но у него и в мыслях не было ничего подобного. В антракте после второго акта Андре-Луи зашёл в гримёрную, которую Полишинель делил с Родомоном. Полишинель переодевался.
— Нет смысла переодеваться, — сказал он. — Спектакль вряд ли продолжится после сцены, которой мы с Леандром открываем следующий акт.
— Что вы имеете в виду?
— Скоро увидите. — Он положил какую-то бумагу на стол Полишинеля среди склянок с гримом. — Взгляните-ка. Это что-то вроде завещания в пользу труппы. Когда-то я был адвокатом, так что документ в порядке. Я оставляю вам всем свою долю от доходов труппы.
— Но вы же не хотите сказать, что покидаете нас? — вскричал Полишинель в тревоге.
Во взгляде Родомона читался тот же вопрос. Скарамуш красноречиво пожал плечами. Полишинель продолжал с угрюмым видом:
— Конечно, этого следовало ожидать. Но почему уйти должны вы? Ведь вы — мозг труппы, вы создали из нас настоящую театральную труппу. Если кто-то должен уйти, пусть убирается Бине со своей проклятой дочкой. А если уйдёте вы, тогда — тысяча чертей! — мы все уйдём с вами вместе.
— Да, — присоединился Родомон, — хватит с нас этого жирного подонка.
— Конечно, я думал об этом, — ответил Андре-Луи, — не из тщеславия, а веря в нашу дружбу. Мы сможем обсудить это после сегодняшнего спектакля, если я останусь в живых.
— Если останетесь в живых? — вскричали оба.
Полишинель встал.
— Какое же безумство вы задумали?
— Во-первых, как мне кажется, я доставлю удовольствие Леандру, во-вторых, я уплачу один старый долг.
Тут прозвучали три удара.
— Ну вот, мне пора. Сохраните эту бумагу, Полишинель. В конце концов, она может и не понадобиться.
Андре-Луи вышел. Родомон уставился на Полишинеля, Полишинель — на Родомона.
— Какого чёрта он задумал? — осведомился последний.
— Легче всего это узнать, увидев собственными глазами, — ответил Полишинель. Он поспешно закончил переодевание, несмотря на слова Скарамуша, и вышел вместе с Родомоном.
Подойдя к кулисам, они услышали бурю аплодисментов из зала. Но это были необычные аплодисменты, в них звучала какая-то странная нота. Когда всё стихло, зазвучал голос Скарамуша — звонко, как колокол.
— Итак, дорогой Леандр, как видите, когда вы говорите о третьем сословии, нужно выражаться более точно. Что же такое третье сословие?
— Ничто, — ответил Леандр.
Зал затаил дыхание, так что слышно было в кулисах, и Скарамуш быстро продолжил:
— Увы, это верно. А чем оно должно быть?
— Всем.
Раздался одобрительный рёв зала, который никак не ожидал такого ответа.
— И это верно, — сказал Скарамуш. — Более того: так будет, так уже есть сейчас. Вы в этом сомневаетесь?
— Я на это надеюсь, — ответил подготовленный Леандр.
— Вы можете быть в этом уверены, — сказал Скарамуш, и вновь возгласы одобрения превратились в гром.
Полишинель и Родомон переглянулись, и первый шутливо подмигнул.
— Тысяча чертей! — зарычал голос позади них. — Этот мерзавец снова принялся за свои политические штучки?
Обернувшись, актёры увидели господина Бине, который подошёл к ним своей бесшумной походкой. Поверх алого костюма Панталоне была надета женская ночная сорочка, волочившаяся по земле. На лице, украшенном фальшивым носом, сверкали маленькие глазки. Однако внимание актёров вновь привлёк голос Скарамуша, вышедшего на авансцену.
— Он сомневается, — говорил тот залу. — Но ведь и сам господин Леандр — из тех, кто поклоняется изъеденному червями идолу Привилегии, потому-то он и побаивается поверить в истину, которая становится очевидной для всего мира. Стоит ли убеждать его? А не рассказать ли ему, как компания аристократов со своими вооружёнными слугами — всего шестьсот человек — несколько недель тому назад в Рене попытались навязать свою волю третьему сословию? Напомнить ли ему, как третье сословие, создав военный фронт, очистило улицы от этой знатной черни?..
Его прервали аплодисменты — фраза дошла до публики. Те, кто корчился, когда привилегированные называли их этой позорной кличкой, были в восторге от того, что её обратили против самой знати.
— Но позвольте же рассказать вам об их предводителе — самом кровавом аристократе из всей аристократии крови! Вы знаете его. Он боится многого, но больше всего — голоса истины, который такие, как он, стремятся заставить умолкнуть. И он выстроил своих аристократов вместе с их челядью и повёл на несчастных буржуа, посмевших поднять свой голос. Но эти самые несчастные буржуа не пожелали быть убитыми на улицах Рена. Им пришло в голову, что, раз уж знатные господа решили, что должна пролиться кровь, почему бы ей не быть голубой кровью аристократов? Они тоже построились — аристократия духа против аристократии крови — и погнали господина де Латур д'Азира со всем его войском с поля боя с пробитыми головами и вдребезги разбитыми иллюзиями. Те укрылись у кордельеров, и бритые предоставили в своём монастыре убежище оставшимся в живых. Среди них был и гордый предводитель, господин де Латур д'Азир. Вы слыхали об этом доблестном маркизе, повелевающем жизнью и смертью?
Зал взревел, потом снова замер, когда Скарамуш продолжал:
— О, это было славное зрелище — могучий охотник, удирающий, как заяц, и прячущийся в монастыре кордельеров! С тех пор его не видали в Рене, а хотели бы. Однако он не только доблестен — он ещё и осторожен. И как вы думаете, где он скрывается — этот знатный господин, желавший омыть улицы Рена кровью горожан, чтобы заставить умолкнуть голос разума и свободы, который звучит сегодня по всей Франции? Где же прячется этот привилегированный, считающий красноречие столь опасным даром? Он в Нанте.
Зал снова взревел.
— Что вы говорите? Невозможно? Да в этот самый момент, друзья мои, он в театре, среди вас — укрылся в той ложе. Он слишком застенчив, чтобы показаться, — сама скромность! Он там, за занавесом. Не покажетесь ли своим друзьям, господин маркиз? Видите — они хотят побеседовать с вами. Они не верят, что вы здесь.