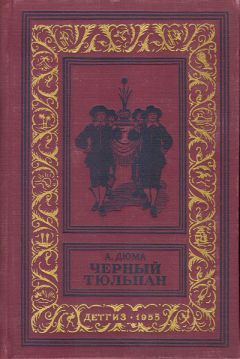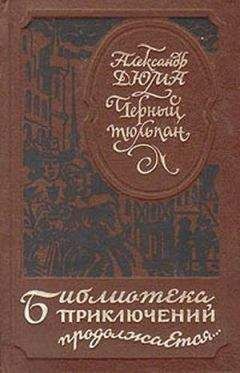Александр Дюма - Черный тюльпан
Голуби оставались еще там, но надежды уже не было, но будущее отсутствовало.
Увы, Роза под надзором и не будет больше приходить к нему. Сможет ли она хотя бы писать? И если сможет, то удастся ли ей передавать свои письма?
Нет. Вчера и третьего дня он видел в глазах старого Грифуса слишком много бешенства и злобы. Его бдительность никогда не ослабнет, так что Роза, помимо заключения, помимо разлуки, может быть, переживает еще большие страдания. Не станет ли этот зверь, негодяй, пьяница мстить ей, подобно отцам из греческого театра? И, когда можжевеловая настойка ударит ему в голову, не пустит ли он в ход свою руку, которую слишком хорошо выправил Корнелиус, придав ей силу двух рук, вооруженных палкой?
Мысль о том, что с Розой, быть может, жестоко обращаются, приводила Корнелиуса в отчаяние.
Он болезненно ощущал свое бессилие, свою бесполезность, свою ничтожность. И он задавал себе вопрос, прав ли Бог, посылающий столько несчастий двум невинным существам. И в такие минуты он терял веру, ибо несчастье не придает веры.
Ван Барле принял твердое решение послать Розе письмо. Но где она?
Возникла мысль написать в Гаагу, чтобы заранее рассеять тучи, вновь сгустившиеся над его головой вследствие не вызывающего сомнений доноса Грифуса.
Но чем написать? Грифус отнял у него и карандаш и бумагу. К тому же, если бы у него было и то и другое — то не Грифус же взялся бы переслать письмо.
Корнелиус сотни раз перебирал в памяти все те хитрости, к которым прибегают заключенные.
Он думал также и о побеге, хотя эта мысль никогда не приходила ему в голову, пока он имел возможность ежедневно видеться с Розой. Но, чем больше он об этом размышлял, тем несбыточнее казался ему побег. Он принадлежал к числу тех избранных натур, что питают отвращение ко всему обычному и часто упускают в жизни удачные мгновения только потому, что они не пошли бы по торному пути, по широкой дороге заурядных людей, приводящей их к цели.
«Как смогу я бежать из Левештейна, — рассуждал Корнелиус, — после того как отсюда некогда бежал господин Гроций? Не приняты ли все меры предосторожности после этого бегства? Разве не оберегаются окна? Разве не сделаны двойные и тройные двери? Не удесятерили ли свою бдительность часовые?
Затем, помимо оберегаемых окон, двойных дверей, как никогда бдительных часовых, разве у меня нет неутомимого аргуса? И этот аргус, Грифус, тем более опасен, что он смотрит глазами ненависти.
Наконец, разве нет еще одного обстоятельства, парализующего меня? Отсутствие Розы. Допустим, я потрачу десять лет своей жизни, чтобы изготовить пилу, которой я мог бы перепилить решетку на окне, чтобы сплести веревку, по которой я спустился бы из окна, или приклеить к плечам крылья, на которых я улетел бы, как Дедал… Но я попал в полосу неудач. Пила иступится, веревка оборвется, мои крылья растают на солнце. Я расшибусь. Меня подберут хромым, одноруким, калекой. Меня поместят в гаагском музее между окровавленным камзолом Вильгельма Молчаливого и морской сиреной, подобранной в Ставесене, и конечным результатом моего предприятия окажется только то, что я буду иметь честь находиться в музее среди диковинок Голландии.
Впрочем, нет, может быть и лучший выход. В один прекрасный день Грифус сделает мне какую-нибудь очередную мерзость. Я теряю терпение с того времени, когда меня лишили радости свидания с Розой, и особенно с тех пор как я лишился своих тюльпанов. Нет никакого сомнения, что рано или поздно Грифус нанесет оскорбление моему самолюбию, моей любви или будет угрожать моей личной безопасности. Со времени заключения я чувствую в себе бешеную, неудержимую, буйную мощь. Во мне сильны зуд борьбы, жажда схватки, непонятное желание драться. Я наброшусь на старого мерзавца и задушу его!»
Тут Корнелиус на мгновение остановился, рот его кривила гримаса, взгляд был неподвижен.
Ему явно пришла в голову какая-то обрадовавшая его мысль.
«Да, раз Грифус будет мертв, почему бы и не взять у него тогда ключи? Почему бы тогда не спуститься с лестницы, словно я совершил самый добродетельный поступок?
Почему тогда не пойти к Розе в комнату, рассказать о случившемся и не броситься вместе с ней через окно в Ваал?
Я прекрасно плаваю за двоих.
Роза? Но, Боже мой, ведь Грифус ее отец! Как бы она ни любила меня, она никогда не простит мне убийства отца, хотя он груб и жесток. Придется уговаривать ее, а в это время появится кто-нибудь из помощников Грифуса и, найдя того умирающим или уже задушенным, схватит меня. И я вновь увижу площадь Бейтенгофа и блеск того жуткого меча; на этот раз он уже не задержится, а упадет на мою шею. Нет, Корнелиус, нет, мой друг, этого делать не надо, это плохой способ обрести свободу!
Но что же тогда предпринять? Как разыскать Розу?»
Таковы были размышления Корнелиуса в то время, когда через три дня после злосчастной сцены расставания Розы с ее отцом он стоял, как мы сообщили читателю, прислонившись к окну.
И именно тогда к нему вошел Грифус.
Он держал в руке огромную палку, его глаза блестели зловещим огоньком, злая улыбка искажала его губы, он угрожающе покачивался, и все его существо дышало дурными намерениями.
Корнелиус, подавленный, как мы видели, необходимостью все терпеть, необходимостью, которую рассудок делал убеждением, слышал, как кто-то вошел, понял, кто это, но даже не обернулся.
Он знал, что на этот раз позади Грифуса не будет Розы.
Нет ничего более неприятного для разгневанного человека, когда тот, против кого направлен его гнев, отвечает полным равнодушием.
Настроив себя надлежащим образом, он не хочет, чтобы его чувства пропали даром, он разгорячился, в нем бушует кровь, и ему необходимо вызвать в другом хоть небольшую вспышку.
Всякий порядочный негодяй, который распалил в себе злобу, хочет, по крайней мере, больно уязвить кого-нибудь.
Когда Грифус увидел, что Корнелиус не трогается с места, он начал громко покашливать:
— Гм-гм!
Корнелиус стал напевать сквозь зубы песню цветов, грустную, но очаровательную песенку:
Чьи дети мы? Что нас на свет явило?
Огонь земли, бушующий всегда,
Заря, роса, и воздух, и вода, —
Но только в небе наша сила!
Эта песня, ее грустный и спокойный мотив усиливал невозмутимую меланхолию Корнелиуса, что вывело Грифуса из терпения.
— Эй, господин певец, — закричал он, стуча палкой по плитам пола, — вы не слышите, что я вошел?
Корнелиус обернулся.
— Здравствуйте, — сказал он.
И снова стал напевать:
Любовь людей — для нас и смерть и муки.
С землею связь — лишь тоненькая нить:
То корень, позволяющий нам жить;
А мы всё к небу тянем руки.
— Ах, проклятый колдун, я вижу, ты смеешься надо мной! — закричал Грифус.