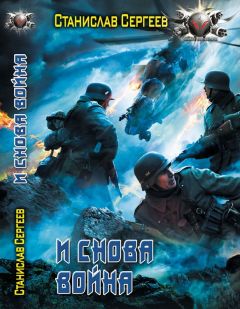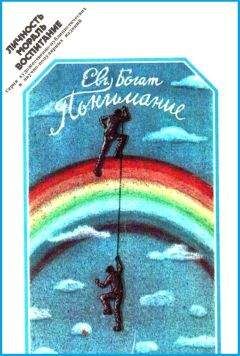Джек Линдсей - Подземный гром
Меня все больше тревожила табличка, расстроившая Лукана. Эклоги заняли больше часа. Пастухи совершали возлияния козьим молоком гению Императора и были вознаграждены невиданными удоями. Любовники прерывали свои лобзанья, чтобы посвятить минуту блаженства Господину Всех Радостей. Приан был изображен почтенным патриотом, поскольку утехи, каким предаются в садах, способствуют росту населения империи и могут дать множество здоровых рекрутов для легионов. Даже коза, помнится, произнесла утонченную речь, предлагая посылать лучшие сыры Нерону; обладающему самым тонким вкусом на свете. Но все же местами встречались и хорошие стихи, особенно строки, где говорилось о ветре, раскачивающем вершины сосен, там было передано шуршание хвои и тончайшие оттенки изменчивого вечернего освещения, хотя, вспоминая, я, быть может, и преувеличивал их достоинства.
Мне никак не удавалось надолго сосредоточиться, мысли мои блуждали, я забывал о Помпулле и о Лукане, пытаясь вспомнить что-то важное, ускользавшее от меня всякий раз, как я возвращался к действительности. Сидевший неподалеку от меня жеманный юнец взмахивая рукой в такт метру. По временам возникал образ Цедиции, заслоняя все остальное. Как любовница она не представляла ничего особенного: не обнаруживала особого пыла, чуть не засыпала в объятиях, словно погружалась в теплую расслабляющую ванну. Ее подстрекал нежный аромат арабских духов, и она как губка только впитывала наслаждение. Раз-другой я пытался растормошить ее жадными поцелуями или ритмом страсти, она же оставалась лежать в расслабленной дремоте. Но теперь я понимал, что она отдавалась мне более полно, чем какая-либо другая женщина, и напрасно я огорчался, что не сумел ее разбудить. Сейчас я желал ее, как еще никогда не желал другой женщины. Я предчувствовал, что, когда мы встретимся в следующий раз, я испытаю, подобно ей, всепоглощающее наслаждение, при котором сон становится каким-то потоком музыки, то нарастающим, то затихающим в извечном стремительном беге. Я вспомнил, что у нее небольшой шрам на левом бедре, и возмутился: какой же я разиня, что не поцеловал его! Как это я отпустил Цедицию, не увидав ее нагой спины, которую я сейчас представлял себе в причудливой игре теней и света. Отпустил, не покрыв ее поцелуями сверху донизу! Меня терзали горькие сожаления. В ее теле заключалась безопасность, единственная возможная теперь безопасность.
Поэт вновь привлек мое внимание в момент, когда он ударился в эпиллий[24], посвященный Икару. В его словах чудился тайный смысл, отнюдь не вложенный в них. Быть может, ему смутно хотелось в символической форме изобразить крушение всех чересчур честолюбивых мечтаний. Он прочитал такие строки:
Нам сокровенных тайн природы не постигнуть,
Нам не дано стоять в огне, взойти на небо.
И далее:
Нам не дано парить подобно птицам, тщетно
Стремиться нам взлететь на крыльях выше солнца.
Подделать не дано нам дерзкою рукою
Цветок, дитя весны, расцветший ранним утром,
И возмутятся все стихии мирозданья,
Узрев поддельный блеск фальшивых наших молний[25].
Мне казалось, будто он проповедует против заговора, осуждая попытки ничтожных смертных соперничать с высшей силой. И все же, говорил я себе, Нерон не солнце и не бог. Он тоже смертен. Он обезумел, оказался в нестерпимом положении. Икар — это он, а не я. Тем временем напряжение росло. В переполненной и перегретой зале сделалось так жарко, что у меня со лба струйками стекал пот. У меня не хватало силы поднять руку и отереть лоб. Лукан поник в своем кресле, мертвенно-бледный, с опущенной головой.
Наконец Икар погрузился в пучину, и в патетических нотах декламации нам послышался громкий всплеск. Плеяды загоревали, поэт принялся разводить мораль. Затем он сделал паузу и, медленно прочитав последнюю строку:
…И слезы солнца стыли в вышине,
остановился опустошенный, обессиленный, словно его поддерживал лишь звук собственного голоса и он страшился иронического молчания. Но вот раздались рукоплескания, и он воспрянул, засиял, стал кланяться и поворачиваться к занавесу, словно хотел удостовериться, что жена все слышит. Избранники в креслах аплодировали прохладно, задние скамьи почти опустели, но клакёры в самых последних рядах усердно зарабатывали свое вознаграждение.
Лукан встал, меж тем как все вокруг нас только собирались подняться и поправляли складки на тоге. Он приветствовал Помпулла, и голос его, вначале пронзительный, под конец совсем упал:
Он о паденье поет, мыслью высоко взмывая.
Гибель Икара мы зрим в окрыленных стихах[26].
Вряд ли это двустишие он сочинил дома. Он говорил мне, что не имеет представления, о чем будет читать Помпулл. Вероятно, он сочинил его во время скучной декламации, несмотря на одолевавшие его заботы, и не упустил случая публично прочитать свой экспромт.
Помпулл был в восторге. Он всплеснул руками.
— Я не даром жил на свете. Твоя эпиграмма сохранит мое имя, когда мой Икар канет в пучину времен.
Он огляделся, удостоверясь, что его комплимент слышали и будут повторять, и вместе с тем опасаясь, что двустишие Лукана стяжает больше похвал, чем тысячи его строк. Потом мне пришло в голову: может быть, Лукан сочинил и прочитал это двустишие, чтобы создалось впечатление, что он всецело занят вопросами литературы, и желая сгладить впечатление от тревоги, какую невольно обнаружил, получив табличку сенатора. Гости со всех сторон обступили Помпулла, всем хотелось что-нибудь сказать, вознаградив себя за длительное молчание. Потом, выложив запас тщательно отчеканенных похвал, они принялись болтать и сплетничать.
— Ты видел Фабия? Это его первое появление в обществе после смерти жены, между нами говоря, четвертой. Его следовало бы свести с Клестиллой — она только что спровадила на погребальный костер своего пятого мужа.
Афраний издевался над матроной, заплатившей бешеные деньги за лиру, выброшенную прославленным кифаристом.
— Вы слыхали про Лелию? Она переоделась мальчиком и прислуживала актеру Мелеагру. Разыгрался ли скандал? Ну, конечно, все спрашивали, почему он опустился до такого уродливого мальчишки.
Наконец я увидел Пизона. Это был крупный радушный человек могучего сложения. Он то и дело приглаживал свои кустистые брови и был со всеми одинаково любезен. Его блекло-голубые глаза отражали ясный ум и свойственный ему юмор. Меня поразило, что подобный человек связал свою судьбу с заговорщиками. Латеран, намечаемый в консулы, также находился здесь, и я глядел на него с любопытством. Лукан говорил, что он принадлежит к редкой породе людей. Ярый республиканец, столь ярый, что многие сомневались, разумно ли привлекать его к заговору, цель которого обновление, а не уничтожение императорской власти. Он тоже был рослый и плотный, смеялся беззвучным грудным смехом, кивая головой и сотрясаясь всем телом. Ему недоставало врожденного добродушия Пизона, но мне было трудно представить себе его в роли любовника Мессалины, осужденного Клавдием, но затем помилованного благодаря заслугам его дяди Авла Плавтия, завоевателя Британии. Я надеялся увидеть жену Пизона, Аррию Галлу, разведенную с Домицием Силием, женщину незнатного происхождения, но славившуюся красотой. Однако она не появлялась.