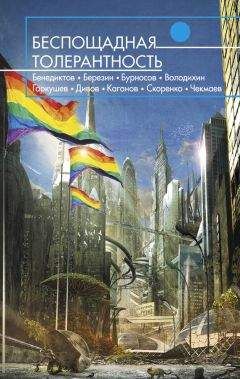Олег Слободчиков - По прозвищу Пенда
Другой бедой прибывших остяков была давняя ссора со сватами с больших озер. Осенью опять произошла стычка на границе родовых угодий. Князец Хыба с братьями боялся их мести и просил, в случае нужды, защиты под стенами зимовья. На это Табанька тут же дал согласие.
Старик, показывая свое расположение, решительно отпил из берестяной кружки русского кваса, поморщился, крякнув от терпкой кислоты. Вскоре у него громко заурчал живот и гость выскочил из избы с задранной на ходу паркой.
— Эдак они нам все зимовье загадят! — зароптали устюжане. Угрюмка же опечалился больше всех, понимая, кому придется убирать.
На другой день пришли за мукой заводчики из поповской чуницы. Табанька еще раз пригласил гостей в зимовье показать, что защитников в нем много, объявил им, что его люди согласны помочь остякам, и велел Пантелею Пенде собираться к остякам. Они взяли запас хлеба и кваса на четыре дня, топоры, пищаль, лук со стрелами при трехгранных железных наконечниках. Сложив все в нарту, ранним утром двое пошли из зимовья к остяцкому стану. Добить раненого медведя в яме для Пенды не представляло труда, а вот увидеть, как живут остяки, было интересно.
Хмурое небо обложили тучи, мела крупка, угрожая перейти в снегопад. Неподалеку от стана паслись три оленя с рогатками на шеях. Остальное стадо держалось на краю редколесья, у замерзшего ручья. Остяков погода не смущала. Они сидели возле костра на месте разобранного чума и неторопливо попивали кипяток, заваренный листьями брусники. При двух знакомых, приходивших в зимовье, был черноволосый дородный мужик со сросшимися на переносице бровями.
— Мата! — предупредительно кивнул в его сторону племянник князца. Мужик взглянул на промышленных равнодушными непроницаемыми глазами и достал из туеска две берестяные чашки, пересыпанные древесной трухой.
Табанька замахал руками, отказываясь от чаепития, и похлопал себя по животу:
— Шинда-мында, с десяток чарок испил!
На лице Маты не дрогнула ни одна жилка, он понял промышленного и аккуратно уложил чашки обратно в туесок. Напившись отвара, бровастый мужик отошел от костра в сторону вольно пасшимся животным, задрал подол и начал отливать влагу. Олени стремглав бросились к нему, да так прытко, что остяк стал лягаться, уклоняясь от рогов и морд, лезущих ему под парку. Тальма с дядей ловко захлестнули их арканами, навьючили разобранный чум, четырех оленей заседлали, двух запрягли в нарты. Быстро и ловко справившись с привычной работой, они снова присели у догоравшего костра, думая о предстоящем пути и о богах-покровителях.
Тальма предложил одному из гостей сесть на оленя, другому на нарты. Табанька вызвался ехать верхом. Пенда спорить не стал. Он вырос при лошадях, но верховая езда на олене его не привлекала: опытный взгляд всадника отметил, что кургузое седельце положено почти на шею животного и непременно должно спадать, едва тот наклонит голову или резко остановится. Стремян при седле не было. Завьюченные и запряженные олени шаловливо косили на людей выпуклыми, плутоватыми глазами, будто готовились весело провести этот пасмурный день.
В руки казаку вложили длинный шест, показав, что им надо время от времени покалывать в зад заленившихся животных, и караван двинулся к западу вдоль ручья. Запряженные в шлею олени без видимого усилия побежали по прежнему следу. Пенда в шубном кафтане поверх жупана, в ичигах, надетых на меховые чулки, развалился на узкой нарте. Табанька за его спиной верхами замыкал караван.
Выбравшись в долину Таза, остяки и промышленные люди до полудня двигались к верховьям реки, потом свернули к западу по одному из притоков вдоль приземистой гривы, густо поросшей лиственницами. С другой стороны лежало болото с высокими кочками. По краю оно заросло кривым березняком. Кое-где виднелись проталины с полыньями.
Чем дальше путники удалялись от реки, тем гуще и мрачнее становился лес. Чаща была иногда такой, что казалось, — человеку и протиснуться сквозь нее невозможно, а в глубине леса виднелись завалы из упавших деревьев.
Остяки ехали молча, не оглядывались. Время от времени они ловко стреляли из огромных луков по тетеревам, сидевшим на вершинах деревьев. Притом стреляли с таким расчетом, чтобы добыча падала неподалеку от тропы. И только один раз у них вышла заминка: Тальма не смог найти пущенную стрелу с костяным наконечником.
— Запали-ка трут, — вдруг проскулил Табанька. Глаза его бегали по чаще леса, лицо под обледеневшей бородой было перекошено.
Пенда взглянул на него удивленно: совсем недавно передовщик ни словом, ни взглядом не обнаруживал подозрений и держался с бесшабашной удалью. Окинув цепким взглядом лес, казак пожал плечами и спросил:
— Какой прок от огненного боя в таком месте?
— Запали! — жалобно всхлипнул Табанька. — Хоть на душе станет легче.
Спорить Пантелей не стал. Зажал между колен огниво, постучал оправленным медью кремешком по ребристой, окованной кольцами сабельной рукояти. Едва задержалась одна из искр в огниве, осторожно раздул ее. Про себя же отметил, что полагаться на Табанькин опыт и доверять ему нельзя. Оставалось надеяться только на себя самого и на молитву.
— Ты рожу-то испуганную не кажи! — обернувшись, приглушенно прошипел передовщику. Тот, увидев его холодные прищуренные глаза, стал еще печальнее: — Этак ты их до греха доведешь и нас погубишь! — тихо добавил Пенда.
Табанька стыдливо дернулся, задрав бороду, поднял глаза к далекому, укрытому кружившимся снегом небу, торопливо перекрестился, бормоча:
— За молитву святых отцов наших, Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя, раба своего…
— Бог ленивым и глупым не помогает! — язвительно прервал его Пенда.
— Всяко бывает! — озираясь по сторонам, просипел Табанька. — Сказывали служилые, что вдесятером ехали за ясаком к верхотазовским самоедам. В таком же вот месте задремали, а те следы за собой замели, обошли их, едущих, спрятались, дождались — и с двух сторон стали посыпать стрелами. А те что? Огнива запаленного — и того не было. Тесаки вставили в самопалы, а самоеды в ближний бой не лезли: стреляли и стреляли из луков. Служилые махали прикладами, отбивая стрелы, пока их всех не перебили. Один только фитиль запалил, стрелял и ранил дикого в руку.
— Зачем сейчас об этом говорить? О том надо было в зимовье думать, — жестко обругал его казак. — А теперь слушай меня: будешь страх нагонять — я тебя застрелю, — сверкнул голубыми ледышками выстывших глаз. — И дикие доставят меня в Мангазею живым и невредимым, чтобы оправдаться перед воеводой.
Табанька разинул рот от казачьего хитроумия: только нехристь мог додуматься до такого спасения. Но угроза подействовала. Передовщик выпрямился в седельце, до того пораженный словами спутника, что долго еще не мог вымолвить ни слова и только разевал рот с кривящимися губами. Так и не сообразив, что ответить, он выдохнул дрожащим шепотком: