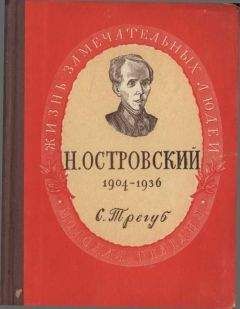Государев наместник - Полотнянко Николай Алексеевич
В десяти крестьянских семьях, пожалованных Палецкому царём, мужиков, годных к работе, было пятнадцать душ, в некоторых семьях жили младшие братья и племянники хозяина. Из них на Майну шляхтич взял пятерых неженатых мужиков. Они шли в Дикое поле с большой неохотой и угрюмо глянули на Палецкого, когда тот подъехал к ним, велел взять топоры и косы с телеги и идти за ним следом на другую сторону Майны.
Через реку мужики перешли голышом, держа одежду над головой. На берегу переоделись и уставились на поджидавшего их шляхтича.
– Великое дело начинаем, ребята, – сказал Палецкий. – Будем ставить деревню, ломать пашню, сеять хлеб – жить здесь будем. Вот вам мой урок: накосить и сметать тридцать копен сена, затем поставить большую избу. Ближе к осени вас сменят ваши родичи. Работайте, чтобы им было где укрыться от ненастья и чем кормить лошадей. Всем понятно?
Мужики молчали, уставившись в землю. Палецкий не удивился: русский мужик тяжёл на подъем, без погонялы с места не сдвинется.
– Как звать? – спросил он ладного парня, единственного, кто с виду показался шляхтичу смышлёным.
– Прокопка, – широко улыбнувшись, ответил тот.
– Будешь в ответе за всех, – сказал Палецкий. – Берите косы и ступайте на луг. Там трава такая, что с одного прокоса три копны выйдет. И знайте, лентяю потачки не будет.
Подьячий Говоров за день успел наделить землей всех шляхтичей. Он был доволен: и дело сделал, и себя не забыл – четыре золотых, по полтине каждый, это тебе не кот чихнул, а его полугодовое жалованье. Задерживаться на Майне он не хотел и сразу объявил, что едет в Казань. Его не удерживали. Шляхтичи, получив отказные грамоты, были заняты мыслями о своих поместьях. Все они, подобно Палецкому, были намерены поставить временные избы и заготовить сено для рабочих лошадей, а затем вернуться в Казань и уже с приказчиками послать с десяток крестьян каждый на Майну для пахотных работ.
С той поры шляхтичи разделились, стали жить всяк сам по себе на своей земле. И сразу в каждом проявился свой норов хозяина. Лайков без удержу лаял мужиков, одного парня, сломавшего косу, отодрал плетью. Удалов во всём следовал повадкам своего соседа, правда без битья, но лаялся страшно. На другой стороне Майны было тихо. Палецкий давал с утра урок, а вечером смотрел, что сделано. Поначалу мужики было заленились, но шляхтич поставил на расправу старшего, Прокопку: привязал его к дереву под комариные жала. Парень сначала крепился, а потом так завыл, что майнским волкам не по себе стало. Однако всех сноровистее оказался тихоня Степанов. Он каким-то неведомым способом и мужиков отучил от лени, и стрельцов запряг в работу за три полушки в день. Те начали в чёрном лесу заготавливать брёвна для помещичьей усадьбы. Другие шляхтичи, узнав об этом, дивились, как эта придумка не могла прийти им в голову.
Новопоселенцам в их делах способствовала погода. Стояли тёплые безветренные дни, кроме комаров, их ничто не беспокоило. Питались люди справно: кроме толокна и сухарей, каждый день варили уху с большим количеством рыбы. Сорожки, окуней, щук в Майне было много, и она битком набивалась в морды. Палецкий, осматривая свои угодья, в лесу наехал на старое дерево, из которого доносился неумолчный пчелиный гуд. Своего смельчака не нашлось, вызвался один из степановских мужиков, залез на дерево и разорил борть, наковыряв из дупла полный берестяной кузов пчелиного мёда. Все тогда посластились вволю, и шляхтичи, и мужики.
Крестьяне знали, что домой они пойдут лишь после того, как сделают всё, что им велено, поэтому работали споро. Трава была густой и укосной, за каждым взмахом косы оставался тяжёлый валок, солнце быстро его подсушивало, и скоро сено начали сгребать и метать в копны, которые затем приваливали с боков и сверху ветками. Палецкий был доволен, сенокос завершён и можно начинать ставить избы. Он уже наметил, где и какие деревья срубить. В нём проснулся хозяин, для временной избы выбирал деревья похуже, а жилище для крестьян решил сделать полуземляными, с небольшим, в аршин поверх земли срубом и пластяной крышей.
На следующее утро четверо мужиков отправились в рощу на заготовку брёвен для избяного сруба и крыши, а Прокопка пошёл за Майну взять у стрельцов лошадь с телегой для вывозки леса. Утро было туманным, мокрая от росы трава приятно холодила парню ноги, невдалеке постукивал дятел. Река обмелела, и, сняв штаны, Прокопка перешёл её вброд. Стрельцы уже были на ногах – кто умывался, кто жевал размоченный в ключевой воде ржаной сухарь, кто, обратясь на восход, творил утреннюю молитву.
Лошади паслись невдалеке от стана, и Прокопка пошёл к ним, ухватил за гриву саврасую кобылу, успокоил ласковыми шлепками по шее, и, сняв с передних ног путы, повлёк её за собой. Поначалу он привёл кобылу к речке на водопой, но она, брезгливо оттопыривая губы, сделала несколько глотков и подняла голову.
– Напилась? Наелась? Тогда пожалуй, барыня, в оглобли, – сказал Прокопка и ударил кобылу верёвкой по боку. Но та даже не шевельнулась, стояла как вкопанная и только стригла ушами.
– Пойдём, что ли, – сказал Прокопка и потянул кобылу за верёвку.
В это время из-за реки до него донёсся шум, похожий на отдалённый топот многих коней, а его кобыла вдруг звонко заржала. С другого берега в воду упало что-то тяжёлое. Это был степановский мужик. Прокопка с перепугу рванул за собой лошадь и укрылся за деревьями. Было слышно, как мужик мычит и барахтается в воде. Прокопка выглянул из-за дерева и увидел на другом берегу двух всадников в овчинных шубах, один из них выпустил из лука стрелу, и поднявшийся из воды мужик упал навзничь, подняв сноп розовых брызг.
На берег выехали еще несколько всадников. Полопотав промеж собой, они стали спускаться с берега к воде. Некоторое время Прокопка зачарованно на них глядел, затем неведомая сила оторвала его от земли и забросила на спину лошади. Ей передался Прокопкин страх, она пронзительно завизжала и кинулась к стрелецкому стану. Прокопка, не останавливаясь, промчался мимо заполошно мечущихся среди возов стрельцов, которые схватились за сабли и пищали и начали отбиваться от нападавших. Раздалось несколько пищальных выстрелов, Прокопка ещё крепче обхватил за шею кобылу и зажмурил глаза. Он мчался по редколесью, иногда древесные ветки хлестали его и рвали одежду, но только кобыла замедляла бег, он колотил её ногами и кулаками и мчался дальше.
Наконец рабочая лошадь, непривычная к бегу, выбилась из сил и встала. Прокопка оглянулся по сторонам, свалился кулем на землю и заплакал, как малое дитя. Страх начал выходить из него слезами. Проплакавшись, он огляделся. Вокруг стояли высокие меднокорые сосны, между которыми кое-где виднелись кусты рябины и ольхи. Земля была устлана толстым слоем высохших иголок и сосновых шишек. Прокопке показалось, что неподалеку кто-то вскрикнул, он затаил дыхание, прислушался, звук не повторился, и лишь сосны пошумливали высоко вознесёнными над землей кронами да поскрипывали, постанывали своими прогонистыми и чуткими к ветру стволами.
Он отёр ладонями лицо, встал и подошёл к кобыле. Она жалобно, совсем по-человечьи, посмотрела на Прокопку, и он не стал садиться, взял за верёвочный повод и повёл за собой, в ту сторону, которая показалась ему светлее. Путь был выбран верно, через некоторое время Прокопка вышел из леса, и перед ним открылось просторное поле, на дальнем краю которого проступал синевою другой лес.
Солнце стояло уже высоко, он вспомнил, что сегодня ещё не ел, и схватился за край рубахи, где у неё с исподней стороны был пришит потайной карман. Ржаной сухарь был цел. Прокопка отломил от него кусок, положил в рот, затем нагнулся и раздвинул траву – в ней было полно поспевшей земляники. В первый раз он наелся ягод от пуза, а потом опомнился. Отец ему говорил, что если случится голодать, не есть их много. Съел горстку, перебил голод, и терпи, а то вывернет всё нутро наизнанку.
От Майны Прокопка решил не отдаляться, переждать пару дней и вернуться, когда степняки уйдут. Может, кто жив остался, надеялся он и схоронился в лесу. Идти одному в свою деревню Прокопке было страшно, да и пути он толком не знал.