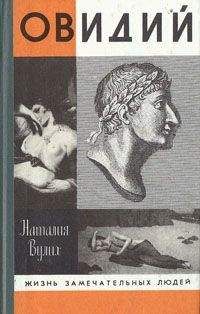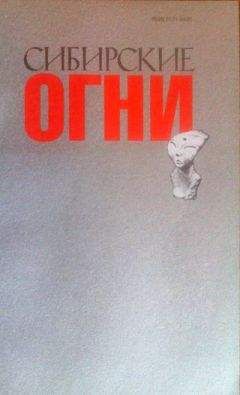Александр Зорич - Римская звезда
Гая Октавия на Мундийской равнине в тот день быть не могло. Он находился очень далеко, на берегу моря, с флотом. Но ветераны, определенно, видели то, что видели.
8. – Помню, в «Секунде» говорил ты о пустоте. Одною которою и должны быть наполнены поэты.
– Примерно так, божественный Юлий. Но я в этом больше не уверен. И уж подавно не могу такого сказать о себе.
– Это я вижу.
Говоря так, Цезарь кивнул дважды. То есть, по его мнению, он сообщил нечто в высшей степени важное. Мне даже показалось, что этим сообщением тема, по его мнению, закрыта и развития мысли не последует. Но он продолжил:
– С того дня, когда я сражался при Мунде, я полон Римом. Я – это Город. Все его ворота и все его дороги. Все холмы и все рощи… Ты прибыл из Остии, верно?
– Да.
– Ты живешь… На улице Большого Лаврового Леса.
– Да.
– А недавно ты ходил куда-то… к фонтану Персея?
– Ходил…
Порою всю благовоспитанность, почтение к старшим и доводы разума побеждает непреклонная логика момента. Я, не в силах больше удерживать в себе свою главную печаль, выпалил:
– …Цезарь, я ищу свою жену, Фабию! Я очень боюсь, что не увижу ее больше! Никогда! Если ты бог…
– Я бог.
– …помоги мне! Ты должен знать где она!.. И еще: возле фонтана Персея живет один предсказатель, Гермоген. Я обращался к нему именно с этим, искал Фабию… Я думаю, он написал на меня донос. Городская стража может схватить меня. И тогда мне конец. Ведь я ссыльный…
– Ссылка пошла тебе на пользу.
– О, несомненно! Все, что делает Цезарь Август, идет нам на пользу!
Я не успел пожалеть о своем невольном сарказме, потому что божественный Юлий поддержал меня с неожиданной живостью.
– Я очень рад, что ты понимаешь это. Хотя он стал злобен и уже почти ничего не соображает. Что бы они тут без меня… А насчет городской стражи не беспокойся. Все вздор.
– Конечно! О чем беспокоиться?! Всего лишь отрежут голову.
– Не отрежут. Соврешь что-нибудь.
– Что?
– Что видел Юлия Цезаря.
Он посмотрел на меня озорно, испытывая то ли остроту моего ума, то ли промеряя, насколько обмелело мое чувство юмора.
Я улыбнулся. Пожалуй, беспомощно.
– Не жди, поэт, что я скажу тебе «Можешь рассчитывать на меня». Ты не на битву идешь, и не к воздвижению городских стен приступаешь. Дела твои – частные, и с ними вполне по силам управиться гениям твоего рода. И все же, я понимаю, что должен испытывать чувство вины перед тобой. А потому я разрешаю тебе в будущем еще раз отыскать меня в книжной лавке Париса. Возможно, у тебя получится… Попросишь о чем-нибудь важном… Похлопочешь…
– Благодарю тебя.
– Тебе пора выходить.
Это было так неожиданно, что я немедля отвел в сторону занавеску и выглянул на улицу. Хотя, наверное, не имел права так поступать без разрешения хозяина паланкина.
Стена какого-то дома, вся в темных потеках.
Носильщики еще продолжали движение. Потребовались три или четыре их шага, чтобы я увидел вытянутые щиты, пучки дротиков, барельеф слона с выщербленным ухом.
Это был дом Нумидийских Трофеев.
«А ведь он обошел мою мольбу о Фабии вниманием! Просто не заметил!»
Носильщики остановились напротив двери.
Ослушаться божественного Юлия я не посмел.
– Прощай, Цезарь.
– Прощай, поэт.
9. Я постучал.
Ожидая, пока ко мне выйдет привратник и заманит меня внутрь – туда, где бассейн с крокодилами и где я буду подвергнут аресту засевшими в засаде стражниками, – я самоотрешился. Меня – как самобытной персоны – не стало, только несколько мыслей перемигивались друг с другом, как огни греческих телеграфных башен.
«Цезарь отверг мольбу Назона».
«Значит, так и надо».
«Цезарь хочет от Назона жертвы».
«Или, сказать лучше, берет Назона в жертву».
«В любом случае, его воля должна быть исполнена».
Отчего я смиренно шел в руки стражникам?
Никоим образом не желая поставить себя вровень с великими даже на словах, я хотел бы надеяться, что мною двигали те же побуждения, которые заставили Цезаря бестрепетно пойти под ножи заговорщиков в те мартовские иды.
Тот не римлянин, кто не поймет меня.
Вместо косматого слуги Гермогена из распахнувшейся двери на меня шагнул стражник. За ним – другой.
И третий.
И четвертый.
Они протискивались мимо меня (я стоял столбом, отчасти преграждая им путь), словно бы фасолины вылущивались одна за другой из тугого стручка. Они пихали меня локтями, царапали ножнами, но при этом всецело игнорировали, поглощенные своим разговором.
– Пять тысяч пятьсот пять сестерциев! Дорого, Квирин свидетель!
– Если на всех пересчитать, на нос меньше сотни выйдет.
– А может, прав был Кроний, не надо с этим Гермогеном связываться?
– Ну ты и жмот! Мы же любим нашего Гнея? Или как?
Я едва не спросил у солдат: «Так а что же я?»
Возможно, и спросил бы. Но тут из сумерек дверного проема на меня воззрились ледяные глаза привратника.
– Чего стоишь? Заходи!
Гермоген принял меня прямо возле крокодилов. Был он чудо как приветлив, даже мил.
– Давно тебя жду. Дождь задержал?
Я молча кивнул.
– Ничего страшного. Я тут принимал четверых парней из городской когорты. Их сослуживца, Гнея, отправляют за какую-то провинность в Верхнюю Германию. А там, как ты верно слыхал, полно летающих ведьм-кровопийц. Солдаты всей центурией хотят сделать ему подарок. Что-нибудь этакое, чтобы мерзавок прямо на части разрывало… Ну, ты понимаешь. Тебе ничего такого не нужно?
– Нет.
– Деньги с собой?
– Что?
– Деньги.
– Да.
– Нашел я твою Фабию. Жива и, насколько я понимаю, здорова.
– Она в Городе?
– Нет. В какой-то Клатерне, я даже не знал раньше, что такая есть. Дыра, не сомневаюсь. Идем, у меня на дощечке все подробно записано.
VII. Назон устраивает счастье
1. Дорожный экипаж, запряженный восьмеркой лошадей, громко мчался на юг. Дорожная пыль, соединяясь с влажным весенним ветром, рождала тяжелые, округлые облака.
В экипаже находился зерноторговец Дионисий, то есть я, Назон. И еще четверо почтенных граждан – двое речистых купцов с отвислыми животами, миловидный, с тонкими чертами лица отрок, путешествующий зачем-то в одиночестве, и человек, назвавшийся Марком. Угрюмая учтивость последнего в комплекте с дорогим мечом, каковой он отказался сдать в отделение для поклажи, а оттого держал на коленях, заставляли заподозрить в нем наемного убийцу.
Рты у купчин не закрывались. Я давно заметил, торговля – лучшая школа суесловия. Помолчать две минуты для аристократии прилавка все равно что умереть. Темы купеческой беседы были «улетными», как непременно выразился бы мой Титан.