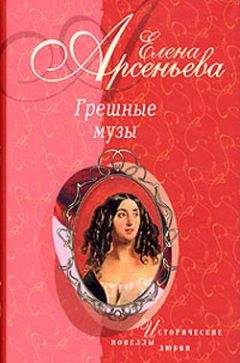Елена Арсеньева - Русские куртизанки
— Похоже на вас, Борис Николаевич?
Вопрос был двусмысленный: он относился разом и к стилю брюсовского стихотворения, и к поведению Белого. В крайнем смущении, притворяясь, что имеет в виду только поэтическую сторону вопроса и не догадывается о подоплеке, Белый ответил с широчайшей своей улыбкой:
— Ужасно похоже, Валерий Яковлевич!
И начал было рассыпаться в комплиментах, но Брюсов резко прервал его:
— Тем хуже для вас!»
И бедняга Белый понял, что рано он радовался, рано решил, что «черный маг» от него отвязался.
В самом деле — жизнь у него настала вовсе уж пугающая. Теперь не только «медиумические явления» в доме происходили: теперь реальность подступала с ножом к горлу. Так, Белый съездил в Петербург и очень подружился там с Дмитрием Мережковским и Зинаидой Гиппиус, а когда вернулся, расхвалил новых друзей при Брюсове. Тот обрушился на скандальную пару с самыми нелицеприятными обвинениями, а когда Белый принялся за них заступаться (между прочим, в письменном виде, прислав Брюсову письмо, потому что от разгоравшегося скандала сбежал, то ли слишком оскорбленный, то ли чрезмерно испуганный), Брюсов отправил ему форменный картель.
Белый чуть ли не в умопомешательство впал от изумления. Ни для дуэли, ни для серьезной ссоры он не видел вообще никакого повода, а потому вызов воспринял как нападение, с умыслом, с какой-то целью организованное. Конечно, он отказался стреляться, письменно объяснил Брюсову его неправоту, к тому же все друзья, все общие знакомые единогласно встали на его сторону, и Брюсов взял вызов обратно.
Разумеется, у него и в мыслях не было рисковать жизнью! Эта несостоявшаяся дуэль — или состоявшаяся в его воображении! — нужна была ему лишь для того, чтобы смоделировать одну сцену из замышлявшегося уже тогда романа «Огненный ангел», именно сцену дуэли двух главных героев. Тогда еще Брюсов не решил, кто будет сражен, кто выйдет победителем, но по реакции друзей Белого, литературной Москвы понял, как следует развивать эту линию будущего романа. Стороной до Белого дошли слухи, будто Брюсов видел сон, в котором Белый убил его на дуэли в кабачке в Кельне в XVI веке… Странным образом с тех пор Брюсов начал гораздо лучше относиться к Белому и даже посвятил ему сборник рассказов «Земная ось».
Эта литературная идиллия выглядела тем более трогательно, что роман Брюсова с Ниной развивался в это время полным ходом, а Белый поглядывал на них как бы отеческим взглядом и даже благословлял. Он получил индульгенцию от Нины: «В тот же год, как Вы ушли, мне дана была радость видеть любовь иную, в иной душе, безмерно более близкой, чем Ваша. Я пред нею преклонилась и ей, одной ей, предала всю мою жизнь навсегда» — и несколько перевел дух.
Июнь 1905 года Нина Петровская вспоминала как лучшее время жизни. Они с Брюсовым уехали в Финляндию, на Сейму, и были там так счастливы, как она не смела даже мечтать. Здесь им ничто не мешало, никакие мужья, никакие жены, никакие мещанские (он даже жил в Москве на Мещанской улице!!!) привычки Брюсова… к примеру, он очень любил играть в преферанс, это было модно среди мелкого чиновничества… видимо, и среди доморощенных магов — тоже. Ходасевич, который с Ниной дружил и был в нее тихо, философически влюблен, который очень бесился ее умением растворяться в мужчинах, то в одном, то в другом (но не в нем, вот же несчастье, не в нем!), порою подкалывал, подгрызал ее намеками на эту его черту, которую он считал сущим убожеством, хотя и сам предавался общепринятому увлечению. Нина по этому поводу потом вспоминала: «Домашний быт его, преферанс по воскресеньям, буржуазно-размеренная его жизнь на Мещанской улице — все это в течение семи лет терзало и меня.
С мефистофельской улыбкой рассказывал мне В. Ходасевич:
— Хорошо было вчера… хорошо… очень приятно. Все честь честью, как во всех приличных домах. Чаю напились с тортом, потом в картишки сразились. Талантливо играет Валерий Яковлевич в винт… —
и подсматривал за мной. До чего подсматривал! Видел на моем лице тоску, и, видя ее, наслаждался и, как умел, меня любил тогда…»
Именно эта домашность Брюсова, готовность «возвращаться в быт» и внутренне, и внешне и поражала Нину, которая мечтала быть с ним всегда, неотлучно. Но все равно она не смогла быть в той его жизни рядом, даже если бы он был холост, даже если бы женился на ней. «Да, конечно, я не могла бы играть с ним и его родственниками по воскресеньям в преферанс по маленькой, чистить щеткой воспетый двумя поколениями поэтов черный сюртук, печь любимые пироги, варить кофе по утрам, составлять меню обеда и встречать его на рассветах усталого, сонного, чужого… Этот терновый венок приходится на долю жен поэтов…» Нина не была создана быть женой — только временной спутницей какого-нибудь мужчины. А здесь, на Сейме, для этой временности, которая была основой существования Нины, создались самые благоприятные условия.
Они бросили в реку письма Белого, которые Нина раньше хранила, как священные реликвии, — и словно бы очистились от прошлого: «Когда-то А. Белый писал мне длинные письма (часто, как потом убедилась, отрывки из готовящихся к печати статей). После нашего разрыва, летом 1905 года, мы с Брюсовым привязали к этим письмам камень и торжественно их погрузили на дно Сеймы. Так хотел Брюсов. Когда-то расшифровывать эти строчки для меня было целью бытия…» Теперь целью ее бытия стал Брюсов. Их с Ниной страсть достигла наивысшего накала. И отражение этой страсти в стихах поистине прекрасно своей откровенностью… только странно, что самые откровенные стихи Брюсов потом так и оставил не опубликованными в им самим составленных сборниках…
Запах любимого тела
В буйной горячке объятий.
Страсть, как пожар, догорела.
Стынут два сдавленных тела
На непомерной кровати.
Слуху доступно дыханье,
Взоры вперились во что-то —
Вновь восстает мирозданье.
Сладостно входит в дыханье
Запах и кожи, и пота.
Тело, что сближено с телом,
Гордо, бесстыдно и наго.
Так, в полусне онемелом,
Сладостно сблизиться с телом,
Нежно увлаженным влагой.
Скованы двое истомой.
На непомерной кровати —
Челн, по теченью влекомый…
Милая! Дай мне с истомой
Медлить в твоем аромате!
Вернувшись в Москву, они расстались на два месяца, и это породило лавину писем друг к другу, отсылавшихся почти ежедневно.
«Я радуюсь, что сознавал, понимал смысл этих дней, — писал Брюсов Нине. — Как много раз я говорил — да, то была вершина моей жизни, ее высший пик, с которого открылись мне оба океана — моей прошлой и моей будущей жизни. Ты вознесла меня к зениту моего неба. И Ты дала мне увидать последние глубины, последние тайны моей души… И все, что было в горнилах моей души буйством, безумием, отчаянием, страстью, перегорело и, словно в золотой слиток, вылилось в Любовь, единую и беспредельную, навеки».