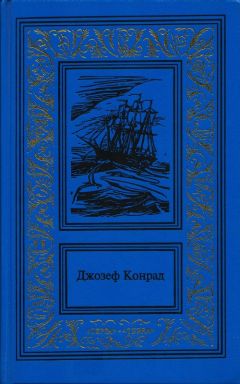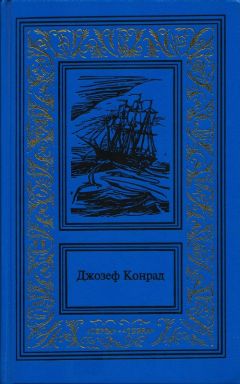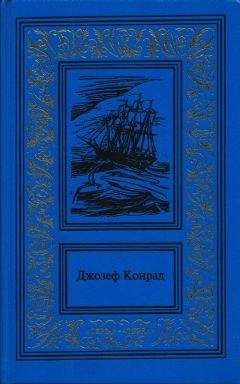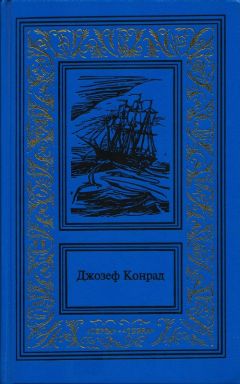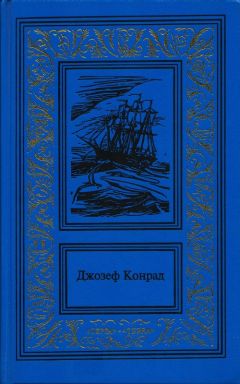Изгнанник. Каприз Олмейера - Конрад Джозеф
Виллемс хотел броситься бегом, однако ноги разъезжались на земле, внезапно обратившейся в жидкую грязь. Он пробирался по двору, как сквозь толпу, нагнув голову, выставив плечо вперед, с частыми остановками, а иногда отступая на один-два шага, не в силах противостоять напору воды. Аисса не отставала от него, останавливалась, когда останавливался он, отступала вместе с ним, вместе с ним шла вперед по скользкому подъему. Первый же мощный ливень, казалось, смыл все, что прежде находилось во дворе. Глазу не за что было зацепиться. Дерево, кусты, дом, ограда – все скрылось за плотной завесой дождя. Волосы облепили голову, одежда пристала к телу, вода струилась по голове и плечам. Они терпеливо, медленно и прямо продвигались сквозь то вспыхивавшую, то мрачную пелену дождя под непрерывные раскаты грома, как два обреченных на вечную связь с водой, неприкаянных призрака-утопленника, вылезших из реки, чтобы посмотреть на всемирный потоп.
Слева из мглы, словно приветствуя их, показалось дерево, едва узнаваемое, высокое, неподвижное, терпеливое. Бесчисленные листья жалобно шелестели под каплями, с безжалостной торопливостью прокладывавшими себе дорогу через его крону. Справа из тумана выплыл почти черный дом, по крутым скатам крыши которого гулко барабанил дождь, а поток с шумом переливался через свес. Вода прозрачным мелким ручьем бежала вниз по сходням, а когда Виллемс начал подъем, обтекала его ступни, как будто он поднимался по руслу быстрой мелкой горной реки. Подошвы оставляли на сходнях грязные смазанные следы, на короткое мгновение нарушавшие чистоту потока. Наконец он добрался до помоста из бамбука перед дверью под нависающим краем крыши.
Низкий стон и жалобное прерывистое бормотание заставили Виллемса замереть на пороге. Он осмотрелся в полутьме и увидел у стены бесформенный силуэт старухи. Пока он смотрел на нее, сзади его плеч коснулись две руки. Аисса! Он совсем про нее забыл. Виллемс обернулся, Аисса немедленно обняла его за шею и прижалась к нему всем телом, словно опасаясь, что он оттолкнет ее и убежит. Виллемс напрягся, ощутив неприязнь, ужас, душевный протест, а она повисла на нем, словно ища защиты от невзгод, бури, изнеможения, страха и отчаяния, вложив в это жуткое, яростное и скорбное объятие последние силы – лишь бы укротить его, навсегда удержать возле себя.
Глядя ей прямо в глаза, Виллемс попытался молча высвободить свою шею из цепких пальцев, наконец силой разомкнул ее руки, крепко схватил за запястья и, приблизив к ней распухшее лицо, сказал:
– Это ты во всем виновата. Ты…
Аисса не поняла ни слова. Виллемс говорил на языке своего племени, не ведавшего пощады и стыда, к тому же сердился. Увы! Он теперь почти все время сердился, все время говорил по-чужому. Она молча стояла и терпеливо смотрела на него. Виллемс пару раз встряхнул ее кисти и отпустил.
– Не ходи за мной! – крикнул он. – Я хочу побыть один. Один! Понятно?
Он вошел в дом, оставив дверь открытой.
Аисса не сдвинулась с места. Как не понять слова, когда они сказаны таким тоном? Его нынешний тон совсем непохож на тот, каким он разговаривал с ней у ручья, когда не сердился и постоянно улыбался! Глядя на темный дверной проем и склонив голову набок, она рассеянно отжала воду из длинных волос с печальным сосредоточенным видом, словно прислушиваясь к внутреннему голосу горького бесплодного сожаления. Гроза прекратилась, ветер затих, дождь отвесно падал ровной стеной в сером чистом воздухе, далекое солнце победоносно разгоняло черные тучи. Аисса стояла у порога. Одинокая фигура Виллемса маячила в сумраке дома. Молчит. О чем он сейчас думает? Чего боится? Чего желает? Определенно не ее, как желал в те дни, когда еще умел улыбаться. Как узнать?
С приоткрытых губ Аиссы слетел в окружающий мир вздох, родившийся в самой глубине сердца: неслышный, глубокий, надрывный – вздох, полный боли и страха. Так вздыхают люди перед ликом неизвестности, одиночества, сомнений и отчаяния. Аисса выпустила из рук волосы, и те тут же облепили плечи, как траурная накидка, и осела на пол. Схватившись за щиколотки, женщина уткнула голову в колени и замерла под черным покрывалом волос. Она думала о днях, проведенных вдвоем у ручья, обо всем, из чего состояла их любовь, и сидела в скорбной, сиротливой позе плакальщицы, что льет слезы у одра мертвеца.
Часть V
Глава 1
Олмейер сидел на веранде, упершись локтями в стол, подперев голову обеими руками, и смотрел прямо перед собой поверх полоски молодой травы во дворе и куцей пристани, облепленной маленькими каноэ, над которыми, как белая гусыня над чернявыми гусятами, возвышалась большая китобойная шлюпка, мимо стоявшей на якоре посреди реки шхуны и леса на левом берегу, проникая взглядом за пределы иллюзорного материального мира.
Солнце клонилось к закату. К небу, сплетаясь в плотную тонкую паутину, поднимались нити белого пара, тут и там собиравшегося в белые клубки тумана. На востоке из-за рваной каймы леса выглядывали вершины облачных хребтов, робко, медленно, словно боясь потревожить сверкающее оцепенение земли и неба, набиравшие высоту. За исключением шхуны речная поверхность перед домом была пуста. Из-за речной излучины появилось и медленно проплыло на пути к своей океанской могиле, проследовав через почетный караул застывших по обе стороны реки живых собратьев, одинокое, вырванное с корнями мертвое дерево.
Сжимая лицо в ладонях, Олмейер тихо ненавидел все вокруг: мутную реку, линялую синеву неба, проплывающее мимо в свой первый и последний путь черное бревно, зеленое море листвы, сияющее, блестящее, шевелящееся над непроницаемым лесным мраком, – веселое море живой зелени, обрызганное золотой пыльцой косых солнечных лучей.
Он ненавидел все без разбора, сожалел о каждом дне, каждой минуте, проведенной в этом окружении, сожалел горько и злобно, с бешеным остервенением, как скряга, вынужденный делиться богатством с бедным родственником. При этом все это приносило огромную пользу, сулило блестящее будущее.
Олмейер в раздражении отпихнул стол, встал, сделал несколько бессмысленных шагов, остановился у балюстрады и снова посмотрел на реку, которая могла бы обогатить его, если бы не…
– Какое гнусное животное! – пробормотал он.
Рядом никого не было, но Олмейер говорил вслух, как делают люди, захваченные врасплох сильной, настойчивой мыслью.
– Животное! – повторил он.
Река потемнела, темный силуэт одинокой шхуны изящно покоился на поверхности воды, две стройные тонкие мачты прямыми линиями упирались в небо. Вечерние тени выползали из леса, перелезая с ветки на ветку, длинные солнечные лучи золотили макушки деревьев, подсвечивали нагромождения облаков, придавая им торжественный, пламенеющий вид, наполняли их последним светом дня. Внезапно свет погас, словно утонул в безбрежной голубой пустоте неба. Солнце зашло. Лес немедленно превратился в непроницаемую и бесформенную темную стену. Поверх деревьев у края блуждающих облаков робко мигала одинокая звезда, то и дело заслоняемая невидимыми, поднимавшимися с земли потоками испарений.
Олмейер ничего не мог поделать с поселившейся в груди тоской. Он слышал, как Али накрывает стол для ужина, и с настороженным вниманием прислушивался к вызванному действиями слуги шуму – звону стекла, стуку ножей и вилок. Али вышел. Сейчас он снова вернется, позовет за стол. Олмейер, несмотря на тяжесть мыслей, ждал момента, когда будут произнесены знакомые слова. И слуга действительно старательно и отчетливо выговорил по-английски:
– Готово, сэр!
– Хорошо, – буркнул Олмейер.
Он все еще был погружен в мысли и стоял спиной к столу, на который Али поставил зажженную лампу. Олмейер думал: «Где сейчас Лингард? Вероятно, на полпути отсюда к морю, на корабле Абдуллы. Вернется дня через три, а может, и быстрее. А что потом? Потом шхуне придется покинуть реку, и они с Лингардом останутся здесь одни с постоянной мыслью об этом мерзавце, что живет у них под боком! Надо же было такое придумать – оставить его в этом месте до конца жизни. До конца жизни! Да и что это означало? Год? Десять лет? Какая нелепость – держать его здесь десять или даже двадцать лет! Шельмец запросто мог протянуть и больше двадцати лет. И все это время его придется сторожить, кормить, обслуживать. Один Лингард мог такое придумать. Двадцать лет! Ну уж нет! Через десять лет они накопят состояние и уедут. Сначала в Батавию, – да, в Батавию – а уж оттуда в Европу. Лингард, скорее всего, захочет вернуться в Англию. А Виллемса здесь оставит? На кого он будет похож через десять лет? Одряхлеет поди. Да и черт с ним. Нине исполнится пятнадцать. Она станет богатой прелестной барышней, да и сам он будет еще не так стар.