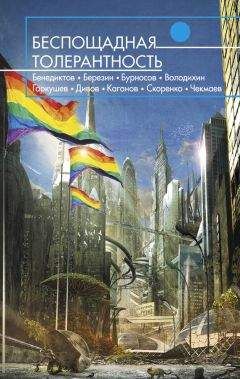Олег Слободчиков - По прозвищу Пенда
Вот и приморозило, да так, что на ветру в зипунишке или кафтанишке даже привычным к стуже казакам стало не по себе. «Ничо! В холод всякий молод!.. Что мужику деется — бежит да греется».
— Это не Устюг Великий и не Холмогоры! — шутили ватажные, считавшие прежде, что зима в здешних местах приходит, как и у них на отчине.
Доброе начало — половина успеха. Обоз двигался на полдень по окрепшему льду реки. Впереди налегке шагал Табанька Куяпин в зипунишке, крытом лузаном, и в сермяжном малахае. Лыпой — посохом в полсажени с насаженным на конец коровьим рогом — прощупывал лед, отходя то к одному берегу, то к другому. По его следу промышленные тянули шесть больших двухсаженных нарт, сделанных по сибирскому обычаю узкими — в семь вершков.
Промышленная ватага разделилась на пять чуниц[46] во главе с выборными чуничными атаманами. Самая малая чуница у донцов: Угрюмка с Третьяком да их передовщик Пантелей Пенда. Нарты у них были самыми легкими, и те они не всегда могли сдвинуть с места без сторонней помощи. Если бы не уледи — подошвы с шипами, да лыпы, и вовсе не сорвать бы их с места после стоянки.
Скрылись за спиной башни города и кресты церквей. От разгоряченных людей шел пар. Пантелей Пенда скинул суконную шапку, распахнул жупан под лузаном. По совету бывальцев кожаную рубаху с бахтерцами он оставил на хранение в чулане Успенской церкви вместе с шапками промышленных людей. Все оделись в одинаковые малахаи — и перестали отличаться по виду холмогорцы от устюжан.
Табанька шагал впереди с таким видом, будто в руке его была не лыпа, а держава. Вот он поднял посох — и стих скрип нарт, умолкли сипение, кашель, хрипение. Обоз остановился. Опираясь на посохи, бывалые промышленные перешибленно согнулись в поясницах, давая быстрый отдых натруженным жилам. Хотелось пить. Угрюмка пошел к берегу, высматривая полынью. Кто-то долбил лыпой лед. Табанька велел подойти к нему чуничным атаманам и строго объявил:
— В пути воды не пить: от нее сила уходит и кишки горят! А можно выпить по чарке квасу!
Люди Луки Москвитина ослабили ремни-поворы, которыми был стянут груз на нарте. Спереди на ней крепился котел с квасом и с черпаком. Лука стал наливать подходившим каждому в его кружку по чарке — на три-четыре глотка — только язык смочить. Больше ватажный передовщик пить не велел, и с ним пока не спорили. Лука напился последним, крякнул от удовольствия, вытер рукавом обледеневшую бороду. Затягивая передок нарты, надсадно пошутил, что она стала легче.
Ничто уже вокруг не говорило о близости города, лишь редкие затесы на низкорослых лиственницах напоминали о том, что здесь бывали люди. А росли они редко в перелесках между голыми болотами, за несколько верст одна от другой.
Через неделю провонявшие дымом и потом промышленные люди все еще тянули бечевы своих нарт. Как всегда, все ждали вечера, отдыха, костра и ужина. Вот уже в полдник они съели последний хлеб и думали остановиться на ночлег пораньше, чтобы выпечь свежий.
Смеркалось, а Табанька все шел и шел, время от времени останавливаясь и с умным видом выглядывая какие-то ему одному известные метки, затем снова шел, то ли что-то искал, то ли не мог выбрать место для ночлега. Промышленные устало поругивали его и с нетерпением ждали, когда он воткнет в мерзлую землю лыпу, выстывшими губами под смерзшейся бородой станет шепеляво читать молитву.
Уж завечерело. Путники с тоской и злостью думали, что теперь им придется до полуночи жечь костры и греть землю. Хорошо, сухостой был рядом. Но передовщик не остановился и возле сухостойного леска отыскал заметенное устье речки и торопливо зашагал по ней, подавая знак следовать дальше.
Ропот чуничных перешел в ругань, но Табанька без остановок и раздумий, налегке, убежал далеко вперед. Промышленные готовы уже были кричать вслед. Здешние места казались им хуже и неудобней для ночлега, чем недавно пройденные.
Но вот Табанька остановился, что-то разглядывая по левому берегу ручья, за излучиной, скрытой унылым березовым колком. Вдруг он стал креститься и кланяться на полдень, вызывая недоумение у идущих по следу. Когда промышленные подтянулись ближе, то увидели в полутьме зимовье, огороженное полуторасаженным тыном.
Ворота были распахнуты. По углам тына стояли изба и баня, срубленные наспех из неошкуренного леса. Между ними — просевший навес, крытый берестой. Над воротами чернел крест. В огороженном дворе в пояс торчала сухая трава, присыпанная снегом, показывая, что здесь давно не жили люди.
Бросив постромки нарт, путники стали истово креститься на почерневший крест. Каким бы заброшенным и ветхим ни было зимовье, ночлег в нем представлялся радостней, чем под небом.
— Слава Тебе, Господи! Глазам не верю, — бормотал Табанька, искренне удивляясь и поглядывая вокруг. — Целехонькое. Два года пустовало. Утуева рода князец бывал здесь, а не спалил… Друг! Кунак! Вдруг жив — встретимся, даст Бог!
Уставшие люди запели благодарственные молитвы. Табанька подпевал, на ходу раздвигая лыпой сухую траву. По-хозяйски прошел к избе, заглянул в распахнутую дверь, перекрестился, махнул, приглашая за собой. Пока не стемнело и не выстыла сырая одежда, промышленные стали таскать в зимовье дрова.
Изба с чувалом изрядно отсырела и прогнила. Но едва развели огонь и заткнули лавтаком окно, в ней появился желанный дух жилухи. К радости путников, передовщик объявил, что сюда их и вел, да не знал, цело ли зимовье. Дал Бог облегчение: подлатать, проконопатить, запастись мясом, рыбой — и можно начинать промыслы.
— Смотрите друг за другом крепко, не нагрешил бы кто, не лишил бы нас помощи святых угодников, не спугнул бы удачи, — наставлял Табанька, греясь у очага. И его почтительно слушали.
Изба быстро наполнялась теплом.
— Ни одного образка не оставили, — проворчал отогревшийся Лука Москвитин, укоряя последних насельников зимовья в том, что те забрали с собой все иконы. — Наверное, и домового увели?
— Спаси Бог, если бросили! — испуганно замахал руками передовщик. — Если дедушку не позвать в новую избу — он в старой проказить будет!
— А бывает, с лешими спутается и уйдет! — просипел Гюргий Москвитин, снимая сосульки с усов. — Давненько, видать, здесь никто не жил.
— Домовой лешему — враг лютый! — поправил брата Лука. — Хотя с полевыми иногда знается! А те и с домовыми, и с лешими бывают в дружбе.
— Нет здесь ни полей, ни лесов — болота и те мерзлые! — устало всхлипнул кто-то из промышленных.
— Потому и лешие в тайболе особые, — стал наставлять Табанька. — Тайгунами зовутся. А непролазная, заколдобленная чащоба — тайгой… Ночью все узнаем! — оттаяв ремни, стал скидывать лузан. — Коли здесь домовой, то он, истосковавшись по людям, ночью станет шалить: теплой и мохнатой рукой погладит по лицу — к добру, голой и холодной — к худу. А кого душить будет — спрашивай: к добру али к худу? И примечай — легко станет или тяжко.