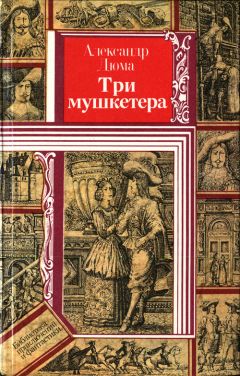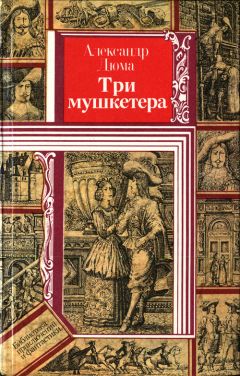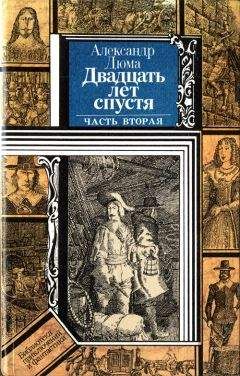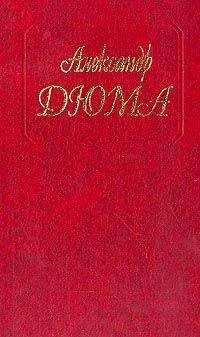Александр Дюма - Олимпия Клевская
— Нет, сударь, — потупился Баньер, устыдившись, что его познания в генеалогии знаменитого семейства не простираются далее третьего колена.
— А-а! Так вот, прадед мой, Шевийе, тоже актер, по уму весь пошел в моего прапрадеда, поэта весьма любезного и столь же набожного, сочинявшего мистерии и при надобности игравшего в них.
— Неужели? — изумился Баньер, уже не сдерживая своего восхищения. — Поэт и актер, подобно господину де Мольеру?
— Ах, ну конечно же! Однако, прошу отметить, от господина де Мольера его отличало нечто весьма существенное, что я уже вскользь отметил, сделав упор на словах «поэт весьма любезный и столь же набожный», в то время как господин де Мольер, напротив, славился угрюмостью и безбожием.
— Я не премину, сударь, удержать это в памяти и буду вспоминать об этом, уверяю вас, во всех надлежащих случаях… Но покамест, сударь, не изволили бы вы присесть? Наши святые отцы закончат трапезу никак не ранее чем через четверть часа, и вам совершенно не обязательно ожидать их стоя, разве не так?
— Так, совершенно так, сударь… ох, прошу прощения… брат мой. С величайшей охотой воспользуюсь и вашим любезным разрешением и удовольствием от продолжения беседы с вами, если, конечно, мои речи вас не утомили!
— Что вы, отнюдь! Напротив, поверьте, что все вами сказанное меня живо заинтересовало. Мы остановились на вашем деде.
— Да, на деде, совершенно верно. Так вернемся же к моему деду, и вы увидите, что я отнюдь не пускаюсь в пустые словоизлияния.
— О, я отношусь к вашим словам с полнейшим доверием!
— Так вот, я говорил, что Шевийе де Шанмеле, мой дед…
— Тот, что играл королей?
— Да, друг господина Расина.
— И господина Лафонтена?
— Истинно так, и господина Лафонтена. Так вот, я уже говорил, что Шевийе де Шанмеле испытал в жизни множество невзгод. Сперва от потери жены, ушедшей в мир иной в тысяча шестьсот девяноста восьмом году, потом от того, что за ней последовал господин Расин, а это случилось в тысяча шестьсот девяноста девятом. Я не говорю уже о господине Лафонтене, оставившем этот мир раньше их, в тысяча шестьсот девяноста пятом, и притом как истинный христианин.
— Насколько помню, ваш дед был соавтором господина Лафонтена и сочинил вместе с ним четыре комедии: «Флорентиец», «Заколдованный кубок», «Заблудившийся теленок» и «Взять врасплох», не так ли?
— О сударь, не устаю восхищаться вашими глубокими познаниями касательно драматического искусства, весьма удивительными у послушника, но все же не утаю: лично я убежден, что Лафонтен, человек добрейший, из простой снисходительности и желания возвысить моего деда в глазах света позволял тому утверждать, будто они писали вместе.
— А-а, понимаю!
— Вот-вот, мой дед позволил великому поэту войти на правах весьма близкого человека в свое семейство, а тот одарил его родством со своими творениями.
Баньер чуть заметно покраснел.
— Итак, вы упомянули, — слегка запинаясь, напомнил он, — что ваш дед пережил немало невзгод: кончину господина Лафонтена, своей жены и господина Расина.
— Прибавьте к тому, — подхватил Шанмеле, — и разочарование от малого успеха, осмелюсь сказать прямо-таки провала некоторых пьес, притом сочиненных им самим без всяких помощников, — таких пьес, как «Час пастуха», «Улица Сен-Дени», «Парижанин»; подобные частые падения не могут не утомить человека, особенно — когда падаешь с высоты пяти действий в стихах. Короче, дед мой после тысяча семисотого года стал походить на короля Людовика Четырнадцатого, сделался таким же мрачным, предпочитал молчание беседе, сторонился людей и с утра до вечера пребывал в состоянии задумчивости. И вот случилось так, брат мой, что дневных грез ему стало мало, и Шевийе де Шанмеле принялся грезить и по ночам, а однажды ему привиделась супруга его Шанмеле и матушка его, мадемуазель де Шевийе; обе они плечом к плечу стояли перед ним, бледные, белые как тени, с мрачными, искаженными страданием лицами, и каждая манила его пальцем, словно говоря: «Пойдем с нами».
— О Боже! — простонал Баньер.
— Все это, сударь, случилось в ночь с пятницы на субботу в августе тысяча семисотого года. Это видение так глубоко врезалось ему в память, что он почитал его за истинное происшествие и вовсе потерял покой. С той роковой ночи его везде преследовали эти призраки, ему чудилось то нежное лицо моей бабки Шанмеле, обрамленное черными локонами, то суровый лик моей прабабки Шевийе в седых кудрях, и их печальные улыбки, и зловещий знак, которым они позвали его за собой, отчего он по всякому поводу и без него все напевал себе под нос: «Прощайте, корзины, виноград уже собран!»
А тут как раз, сударь, выпало ему исполнять роль Агамемнона перед самим королем Людовиком Четырнадцатым, и король Людовик Четырнадцатый оказал ему честь, самолично заметив после представления: «Ну, что, Шанмеле, вы и впредь будете играть так же скверно?» И что ж? Мой дед, всегда будучи, как я уже говорил, человеком умным, неизменно судил о себе так, чтобы не слишком расходиться во мнении на сей предмет с королем Людовиком Четырнадцатым, а посему он тут же порешил оставить в покое монархов и перейти на первые амплуа комических стариков.
— Однако позвольте вам заметить, сударь, что если, судя по вашим словам, ваш дед был ввергнут в столь глубокую скорбь выпавшими на его долю утратами, то переход его на комические амплуа именно в это время выглядит не вполне уместным.
— И вы, сударь, совершенно правы: те, кто еще застал беднягу на сцене, успели мне поведать, что никогда мир не видывал столь противоестественного сочетания буффонных ролей с унылым лицом актера. Он так рыдал, заставляя других покатываться со смеху, что сердце прямо разрывалось от одного взгляда на него, вот ему и пришлось-таки возвратиться к своему Агамемнону, ибо его-то, не опасаясь никаких помех, можно играть в любом состоянии, даже совсем отупев.
— Как это? — простодушно спросил Баньер. — Неужели представлять на сцене Агамемнона возможно даже в полнейшем отупении?
— Черт подери, брат мой, вы только посмотрите на тех, кто играет эту роль… Ах!.. Простите, совсем запамятовал, что послушникам воспрещено посещать представления…
— Увы! — прошептал Баньер, подняв глаза кверху.
— Так вот вам доказательство моей правоты: дед мой
играл еще целый год после своего видения и за весь этот срок был освистан всего лишь раз пять или шесть; так потихоньку мы подходим к тысяча семьсот первому году, то есть к концу моего повествования… Однако прошу меня великодушно извинить, брат мой, но мне кажется, вы сейчас оброните ваш платок.
И в самом деле из кармана Баньера высовывалась какая-то белая полоска, которую в церковной полутьме можно было легко принять за ткань.