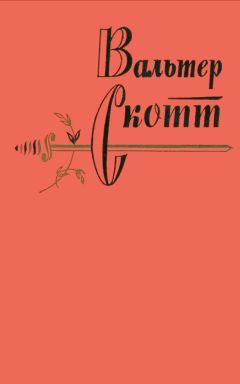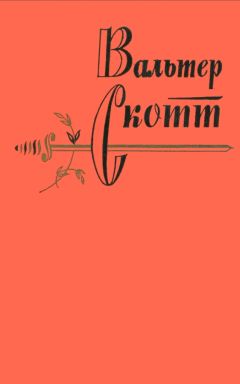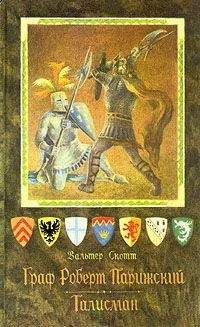Вальтер Скотт - Квентин Дорвард
— Могу я осведомиться, на кого ваше величество думаете возложить столь важное дело? — спросил Оливье.
— Разумеется, на чужестранца, — ответил король, — на человека, у которого здесь нет ни родства, ни свойства и никаких интересов, для которого нет никакой выгоды мешать моим планам и который слишком мало знает нашу страну и борьбу партий, чтобы заподозрить больше, чем я захочу ему сообщить, — одним словом, я думаю поручить это дело тому молодому шотландцу, который сейчас прислал тебя сюда.
Оливье помолчал с видом человека, сомневающегося в благоразумии подобного выбора, и наконец сказал:
— Ваше величество не имели прежде обыкновения так скоро доверяться неизвестным людям, как доверяетесь теперь этому мальчику.
— У меня есть на то свои причины, — ответил король. — Ты знаешь, как я чту святого Юлиана (тут он перекрестился). Третьего дня я молился ему перед сном и просил этого покровителя странников, чтобы он послал мне побольше тех странствующих иноземцев, с помощью которых я надеюсь добиться полного повиновения во всем моем королевстве. Взамен я обещал этому святому принимать их и покровительствовать им во имя его.
— Ив ответ на вашу молитву святой Юлиан послал вам это длинноногое произведение Шотландии? — спросил Оливье.
Несмотря на то что Оливье прекрасно знал, какую огромную роль играло суеверие в набожности Людовика и что его ничем нельзя было так оскорбить и задеть, как коснувшись этой темы, несмотря на то, повторяю, что Оливье была известна эта слабость короля и что поэтому он постарался предложить свой вопрос самым невинным тоном, Людовик почувствовал скрытую в нем насмешку и бросил на говорившего гневный взгляд.
— Негодяй! Недаром тебя прозвали дьяволом! — сказал он. — Кто, кроме дьявола, посмеет издеваться над своим государем и над святыми угодниками? Будь ты мне хоть на волос менее необходим, я бы велел тебя вздернуть вон на том дубе перед замком, в поучение всем безбожникам! Знай же, неверный раб, что не успел я закрыть глаза, как мне явился блаженный Юлиан! Святой держал за руку юношу. Он подвел его ко мне и сказал, что этому юноше суждено спастись от меча, от воды и от петли и что он принесет счастье всякому делу и предприятию, в котором будет участвовать. Наутро я вышел гулять и встретил юношу, которого видел во сне. У себя на родине он спасся от меча — уцелел во время избиения всего его семейства. Здесь же за короткий промежуток в два дня он чудом спасся от воды и от петли и уже успел, как я тебе говорил, оказать мне немаловажную услугу. Вот почему я верю, что он послан святым Юлианом, чтобы служить мне в самых трудных, опасных и даже отчаянных предприятиях.
Окончив эту речь, король снял шляпу, выбрал из множества украшавших ее свинцовых образков тот, на котором был изображен святой Юлиан, положил шляпу на стол и, как это с ним часто случалось в те минуты, когда надежда или, быть может, угрызения совести волновали его, опустился на колени и с глубоким благоговением проговорил вполголоса:
— Sancte Juliane, adsis precibus nostris! Ora, ora pro nobis[95]!
Это был один из тех болезненных припадков суеверной набожности, которые часто овладевали Людовиком в самое неподходящее время и в самом неподходящем месте, делая этого мудрейшего из государей похожим на помешанного или на человека, удрученного воспоминанием о совершенном им преступлении.
Пока Людовик молился, его фаворит смотрел на него с презрением и насмешкой, которых он почти не пытался скрыть. Одной из особенностей этого человека было то, что, оставаясь наедине со своим господином, он отбрасывал тот униженно-вкрадчивый тон, которым отличалось его обращение с другими; если в нем и теперь оставалось все-таки что-то напоминавшее кошку, то это была кошка в те минуты, когда она настороже и готова одним прыжком броситься на врага. Причиной такого поведения Оливье была, вероятно, его уверенность в том, что его господин слишком лицемерен, чтобы не видеть каждого лицемера насквозь.
— И что же, этот юноша, осмелюсь спросить, действительно похож на того, который явился вашему величеству во сне? — осведомился Оливье.
— Как две капли воды, — ответил король, который, как все суеверные люди, часто поддавался обману собственного воображения. — И, кроме того, я велел Галеотти Мартивалле составить его гороскоп[96] и узнал из его слов, а также из собственных наблюдений, что судьба этого бездомного юноши во многом управляется теми же созвездиями, что и моя.
Что бы ни думал Оливье о причинах, которыми Людовик так уверенно объяснял свое доверие к неизвестному мальчишке, он не осмелился ничего возразить, хорошо зная, что король, сильно увлекавшийся во время своего изгнания изучением астрологии, не потерпит насмешки над своими воображаемыми знаниями. И поэтому он только выразил надежду, что этот юноша справится с таким сложным поручением и оправдает оказанное ему доверие.
— Мы примем меры, чтобы иначе и быть не могло, — сказал Людовик. — Он будет знать только одно: что ему поручено доставить дам де Круа в резиденцию епископа Льежского. О возможном вмешательстве Гийома де ла Марка он будет знать не больше самих дам. Об этом мы сообщим только проводнику, выбрать которого уже ваше дело с Тристаном.
— Но в таком случае, — заметил Оливье, — если судить по виду этого молодого человека, да еще принять в расчет, что это шотландец, он не примирится с вмешательством Дикого Вепря и тотчас возьмется за оружие, а тогда, пожалуй, ему не удастся спастись от клыков зверя, как удалось сегодня утром.
— Ну что ж, если ему суждено умереть, — сказал хладнокровно Людовик, — святой Юлиан — да будет благословенно имя его! — пошлет нам вместо него другого. Какая беда, если посланный будет убит, исполнив свое поручение? Это то же, что разбить бутылку, когда вино из нее выпито… Итак, нам надо поторопиться с отъездом дам, а затем уже постараемся уверить графа де Кревкера, что их побег совершился без нашего ведома. Мы скажем ему, что собирались выдать их нашему любезному кузену, но их неожиданное бегство помешало нам, к несчастью, выполнить это намерение…
— А если граф слишком догадлив, а господин его слишком предубежден против вашего величества, чтобы поверить этому?
— Матерь божья! — воскликнул Людовик. — Да ведь такое неверие недостойно христианина! Но они должны, будут поверить нам. Мы выкажем всем нашим поведением такое безграничное доверие нашему любезному кузену герцогу Карлу, что, если он не уверует в нашу полную искренность, он будет хуже всякого язычника. Поверь мне, я твердо убежден, что могу заставить Карла Бургундского думать обо мне все, что мне заблагорассудится, и, будь это необходимо, чтоб успокоить его подозрения, я бы поехал к нему, в его лагерь, верхом, безоружный и без всякой охраны, кроме твоей скромной особы, друг Оливье.