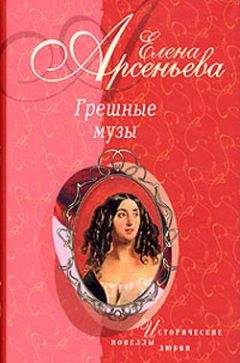Елена Арсеньева - Русские куртизанки
Но любовь, которая делала ее прозорливой, делала ее одновременно и слепой. Она не замечала или не хотела замечать того, что для врага очевидно, — беспощадное к себе и другим кредо Брюсова:
Быть может, все в жизни лишь средство
Для звонко-певучих стихов,
И ты с беспечального детства
Ищи сочетания слов.
В минуты любовных объятий
К бесстрастью себя приневоль
И в час беспощадных распятий
Прославь исступленную боль.
Ей понадобится прожить вблизи этого человека семь лет, чтобы понять наконец: она ошибалась в нем с самой первой минуты, гораздо более правы были его враги со своими ехидно прищуренными глазами, а не она со своими, широко распахнутыми навстречу любви. Только незадолго до смерти, в последних воспоминаниях своих она поставит диагноз своей страсти и вынесет приговор тому, кого столь сильно и трагически любила:
«Он подставлял лицо и душу палящему зною пламенных языков и, сгорая, страдая, изнемогая всю жизнь, исчислял градусы температуры своих костров. Это было его сущностью, подвигом, жертвой на алтарь искусства, не оцененной не только далекими, но даже и близкими, ибо существовать рядом с таким человеком тоже требовало неисчислимых и, хуже всего, не экстатических, а бытовых, серых, незаметных жертв.
Для одной прекрасной линии своего будущего памятника он, не задумываясь, зачеркнул бы самую дорогую ему жизнь».
Да, жертв на счету этого демона в образе человеческом, этого бытового и поэтического мага было много, однако Нина, конечно, имела в виду только свою собственную жизнь, им зачеркнутую.
Прославь исступленную боль… Никто, наверное, кроме самого Брюсова, не знал, была ли его боль хоть раз в жизни подлинной или всегда оказывалась наигранной — может статься, он и сам этого не знал, но уж девочка Ниночка, о которой он напишет в один из дней их бурного романа это щемящее и наивное стихотворение, — девочка Ниночка уж точно болела.
В те годы очень модно было говорить о карме. Нина, конечно, старалась не отставать, но слова этого боялась. «Карма — страшная вещь, если о ней поглубже задуматься, то и жить невозможно. Это пожизненная адская сковорода, на которой человек медленно жарится в собственном соку, только на глубоко мотивированных мудрецами основаниях». Нина сама и близкие — редкие в ее окружении — действительно добрые и светлые, без наигранности, люди, чуяли в ней некую трагическую, кармическую обреченность: то, что она называла «черным ядром гоголевской ведьмы». И уж если ей не дано было дотянуться до «света» Андрея Белого, то оставалось одно — кануть во тьму.
Нелепых легенд и слухов в те годы о Валерии Брюсове ходило множество, и все они почему-то окрашивались в один цвет: черный. Его если не любили, то исступленно, без всякой жалости. И когда он начал кружить вокруг Нины, у нее возникало ощущение, что вокруг нее расстилается, мягко шумит, свивается в кольца черный бархат. Голос Брюсова, звучащий в телефонной трубке, был черный, бархатный — «никогда не забуду, как буквально „проворковал“ в ней в первый раз голос В. Брюсова, без всякой нужды, без всякого дела, чтобы потом звучать часами, часами, часами…»:
— Вы все в трауре, донна Анна?
Нину обижало, что он называет ее этим именем, которое вдруг вошло в моду среди символистов. Вообще она боялась его телефонных звонков, хотя уже совсем скоро Нина запишет в своих заметках:
«Наступила новая осень. Мы переменили квартиру. Поселились в Мерзляковском переулке, опять с несуразными, но на этот раз анфиладой расположенными комнатами.
Хорош там был только кабинет, глубокий и отдаленный, где можно было часами разговаривать с Брюсовым по телефону».
Но до этого нового открытия должно было пройти какое-то время. Это было время осознания того, что, как писал Мережковский,
Небо вверху,
Небо внизу,
Что вверху,
То и внизу…
И может быть, даже еще упоительнее и прекраснее эта нижняя черная бездна, утыканная золотыми гвоздями навеки потерянных звезд.
А попросту говоря, ну никакой разницы нету, кого любить.
Вся беда была в том, что жить без любви Нина не могла. Поэтому она и сказала однажды Брюсову:
— Я хочу упасть в вашу тьму, бесповоротно и навсегда. Вот видите, Валерий Яковлевич, — «обступил ведь сон глухой черноты», и уйти некуда, значит, нужно войти в него. Вы уже в нем, теперь и я хочу туда же.
Строго говоря, Нина прекрасно понимала, что все эти декадентские навороты можно было заменить простыми человеческими словами: я, мол, согласна стать вашей любовницей от безысходности, от горя, надеясь, что вы сможете излечить меня от моей боли, — но тогда выражаться удобопонятно было не в моде.
Брюсов удивился и обрадовался. Но поскольку он тоже был декадент и по-человечески ни поступать, ни говорить не мог — очень боялся выйти из образа «мага», — он не просто обнял и поцеловал милую и желанную женщину, а положил ей руки на плечи и посмотрел в глаза «невыразимым взглядом» — иначе было никак нельзя!
— И пойдете? Со мной? Куда я позову?
«С этой ночи, — будет вспоминать потом Нина Петровская, — мы, сами того не зная, с каждым днем все бесповоротней вовлекались в „поток шумящий“, который крутил нас потом семь лет».
Уже повзрослев (постарев!) и научившись без слез смотреть в прошлое (может, потому, что все слезы ее к тому времени уже высохли, плакать стало нечем), она по-прежнему будет восторгаться и ужасаться одновременно тем страшным чудом, которое обрушили на нее, простенькую истеричку, небеса: любовью к Брюсову, и когда, в какое расхристанное, раздрызганное время!
«Очень трудно человеку стать однажды большим, еще больше того — быть большим всегда, но прожить жизнь маленьким — ничего не стоит. В минуты обостренной внутренней раздвоенности мучила меня случайность, приблизительность, ничем не оправданная ненужность изживаемой жизни. Тогда только шуршали в руках страницы обещающих книг, и, может быть, еще смутно, но уже вызревали идеи подлинной жизни — любви, подвига. Смерти. А обывательски-комнатное брало свое, сонно укачивало, влекло по инерции, — конечно, не вперед, а в постоянные „куда-то“ с маскарадными переодеваниями.
Театры, улицы, карты, сидение за столами, ломящимися от еды, которой и есть-то никому не хотелось, ликеры, вина, фрукты, цветы, сборища нарядных и тщательно замаскированных людей. Полу-мысли, полу-слова, полу-чувства — вся эта разукрашенная на краю бездны пошлость тогдашней русской жизни являлась базисом не только одного моего существования.
И не пойму я теперь, как среди всего этого бездарного времяпрепровождения интеллигентских кругов встретились — нашли друг друга мы, действительно жаждущие друг друга!»