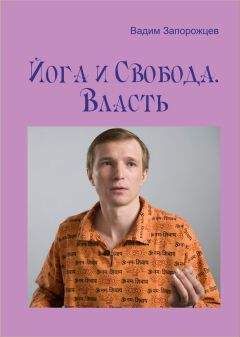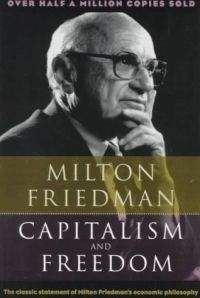Генри Райдер Хаггард - Собрание сочинений в 10 томах. Том 10
— Смотри же на меня, мой Холли. Помни, ты сам этого пожелал; еще раз повторяю, не вини меня, если весь остаток отпущенного тебе жизненного срока ты будешь раскаиваться в том, что поддался любопытству и захотел меня видеть, будешь думать: «Лучше смерть, чем такие мучения!» Скажи же, что восхищаешься моей красотой, признаюсь, я люблю слышать похвалы. Нет, погоди, прежде чем говорить, внимательно меня осмотри, весь мой облик: мои руки и ноги, волосы, ослепительно белую кожу, — и только тогда скажи, приходилось ли тебе видеть женщину, которая ну хоть изгибом бровей или формой ушной раковины превосходила бы меня и заслуживала держать светильник перед моей красотой?! А мой стан? Может быть, ты полагаешь, будто он недостаточно тонок, но это не так, просто золотая змея слишком для него велика. Она — змея мудрая и знает, что стан не следует туго стягивать. Протяни руки, обними мой стан, да покрепче, о Холли!
Перед этим призывом я не мог устоять. Ведь я всего лишь человек, мужчина, а она больше, чем женщина. Но если она не женщина, то кто же? Это известно одному Небу. Я упал перед ней на колени и, нелепо смешивая разные языки, ибо в моих мыслях была полная сумятица, признался, что боготворю ее, как не была боготворима ни одна женщина, и что я готов пожертвовать своей бессмертной душой, чтобы жениться на ней, и это была чистая правда, точно так же поступил бы и любой другой мужчина на моем месте, да и вся мужская часть человечества, если бы можно было слить ее в одного мужчину. Она была слегка удивлена, затем, радостно всплескивая руками, стала смеяться.
— Так скоро, о Холли, так скоро! — воскликнула она. — Я думала, мне понадобится несколько минут. Уже столько времени ни один мужчина не преклонял передо мной колени; поверь мне, это зрелище сладостно женскому сердцу: ни мудрость, ни долголетие не могут заменить этой радости, единственной, в сущности, привилегии нашего пола… Но чего ты хочешь? Чего ты хочешь? — продолжала она. — Ты сам не знаешь, чего ты хочешь. Я уже говорила, что я не для тебя. Я люблю лишь одного человека, и это не ты. О Холли, при всей своей мудрости, а ты по-своему мудр, — ты глупец, потакающий своему безрассудству. А хотел бы ты поглядеть мне в глаза, хотел бы ты поцеловать меня? Ну что ж, гляди! — Она придвинулась и посмотрела на меня в упор своими темными пронизывающими глазами. — И поцелуй меня, если хочешь, ибо по самой своей природе поцелуи не оставляют следов, разве что на сердце. Но предупреждаю, если ты поцелуешь меня, любовь изъест все твое нутро, и ты умрешь. — Она придвинулась еще ближе, так, что ее пышные волосы коснулись моего лба, а ее благоуханное дыхание овеяло все мое лицо, обессиливая и одурманивая меня. Но едва я протянул руки, чтобы обнять ее, как она вдруг выпрямилась, весь ее облик мгновенно преобразился. Она сделала пасс над моей головой, от ее пальцев исходил какой-то отрезвляющий ток, который возвратил мне обычное благоразумие, понимание приличий и добронравие.
— Эта непристойная игра затянулась, — сказала она с суровыми нотками в голосе. — Послушай, Холли, ты человек честный, благородный, и я склонна пощадить тебя, но женщине очень трудно проявлять милосердие. Помни, я не для тебя; пусть же твои мысли обо мне развеются, как палые листья под случайным порывом ветра, пусть прах, взметенный твоим воображением, осядет в глубины… отчаяния. Ты не знаешь меня, Холли. Если бы ты видел меня десять часов назад, в приступе неистовой страсти, ты содрогнулся бы от ужаса. Мое настроение переменчиво; как вода в этом фонтанчике, я могу отражать очень многое, но ведь все проходит, проходит и забывается. Но вода остается водой, не меняется и моя суть; свойства моего характера, как и свойства воды, все те же, что и прежде: даже при желании их нельзя изменить. Поскольку ты все равно не можешь постичь мою суть, не обращай внимания на видимость. А если ты будешь докучать мне, я наброшу покрывало, и ты больше не увидишь моего лица.
Я привстал и снова опустился на мягкий диван, близ ее, все еще дрожа от пережитых волнений, хотя порыв безумной страсти уже миновал, — так продолжают трепетать листья дерева, хотя ветер, который их раскачал, уже унесся прочь. Само собой, я не посмел признаться ей, что видел ее в мрачном, дьявольском настроении, когда она изрыгала проклятья над огнем в усыпальнице.
— А теперь, — сказала она, — поешь фруктов: это лучшая еда для мужчины. И расскажи мне об учении этого иудейского Мессии, который явился в мир позднее, чем я, и который, по твоему утверждению, правит ныне и Римом, и Грецией, и Египтом, и варварскими народами. Странное было, вероятно, Его учение, ибо в те давние времена люди не хотели признавать наших учений. Их привлекали лишь пиры, вино, любовные утехи и кровавые сражения — таковы были догматы их веры.
К этому времени я уже пришел в себя и, горько стыдясь проявленной мною, хоть и вынужденно, слабости, постарался как можно лучше изложить ей доктрины христианства, но ничто, за исключением нашего понятия о рае и аде, ее почти не интересовало; она расспрашивала только о самом Вероучителе. Не преминул я и сообщить ей о том, что среди ее собственного народа, арабов, появился другой пророк — Мухаммед: новой вере, которую он проповедовал, следуют теперь миллионы людей.
— Еще два верования, — сказала она. — Я знала их так много; и за то время, что я обитаю в пещерах Кора, их наверняка стало еще больше. Человечество стремится познать, что скрывается за небесами. Религии порождаются страхом перед смертью и обычным, только более скрытым себялюбием. И заметь, мой Холли, каждая из них обещает загробное блаженство своим верным последователям. Тем же нечестивцам, которым их свет представляется таким же тусклым, как свет звезд — рыбам, они угрожают адскими мучениями. Религии приходят и уходят, цивилизации приходят и уходят: ничто не вечно, кроме самого мира и человеческой природы. О, если бы человек осознал, что надеяться ему надо лишь на себя, а не на чье-либо благоволение: только он сам и может добиться спасения. Он здесь, на этой земле, в нем есть дыхание жизни, есть понимание добра и зла в их истинном смысле. Пусть же он свершает свой труд, выпрямившись во весь рост, не подобает ему простираться ниц перед образом неведомого божества, повторяющего его собственное жалкое «я», но с более сильным умом, способным замышлять зло, и с более сильными руками, способными осуществлять эти замыслы.
Я подумал, что подобная аргументация очень часто употребляется в теологических диспутах — несомненное доказательство ее древнего происхождения; слышал я ее и в наши времена, в девятнадцатом столетии, и в других местах, а не здесь, в пещерах Кора; с этой аргументацией я решительно не согласен, но не стал высказывать свои соображения по этому поводу. Прежде всего я был слишком утомлен перенесенными волнениями, и, кроме того, я знал, что потерплю неминуемое поражение в споре. Не так-то просто противостоять самому обычному материалисту, который забрасывает тебя статистическими данными и доказательствами из области геологии, тогда как ты вынужден опираться лишь на дедуктивные выводы и интуитивные предположения, эти снежные хлопья веры, которые, увы, могут растаять на горячих угольях наших жизненных бед. Какие же у меня шансы победить в споре женщину со сверхъестественно острым умом, с двухтысячелетним опытом жизни да еще и со знанием глубоких тайн Природы?! Вряд ли я смогу обратить ее в свою веру, более вероятно противоположное. Благоразумнее всего было промолчать, что я и сделал. Впоследствии я много раз горько жалел об этом, ибо то была единственная на моей памяти возможность узнать, во что именно верила сама Айша и в чем состояла ее «философия».