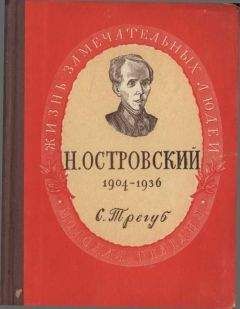Государев наместник - Полотнянко Николай Алексеевич
Федька пришел в себя от холодных капель росы, которые сыпались ему на лицо с ивового куста. Едва открыв глаза, он первым делом схватился за шапку. Пришитый вчера к её отвороту золотой был цел, как и другие, за пазухой. Ватажники начали шевелиться, на крыльцо избы вышел Лом.
– Все живы? – спросил он, оглядывая своё воинство. – А где Филька?
– Тут, – сказал Влас. – От тебя, атаман, хоронится, дрожит с перепугу за вчерашнее.
– Поспешайте, – сказал Лом. – Пора прогуляться по Волге, небось купцы без нас заскучали.
Целый день ватажники простояли в засаде у Яр-Камня, но мимо прошёл всего один струг с крепкой воинской охраной, и нападать на него Лом не решился. Но день на день не приходится, и через неделю людям Лома повезло, они ограбили струг гостя Гурьева. Самого именитого купца там не было, но он не замедлил ударить челом царю. С тех пор Лома стали знать на Москве, а окольничему Хитрово был дан указ поймать Лома и вздёрнуть на рели.
Работных людей на Синбирской горе к середине лета было в достатке, ежедневно на строительстве крепости работали до полутора тысяч землекопов и плотников полный световой день. Крепость, или кремль, стали возводить со всех четырех сторон одновременно, и что ни день, стены прирастали, где на один, где на несколько венцов срубов. Сразу строились и шесть крепостных башен: четыре наугольные и две проездные. Последние делались особо прочными, целиком из дубовых брёвен, которые укладывались с наружной стороны в два ряда, с окованными железными полосами воротами, бойницами для пушечного и пищального боя, надвратной часовней, над которой устраивалась колокольня, где должен быть поставлен государев набатный колокол. Его уже доставили из Свияжска, он лежал на земле возле проездной Крымской башни и внушал людям уважение своими размерами и весом – триста пудов, таких здесь не видывали. Колокола, чуть поменьше, были привезены и для других башен, чтобы своим звоном поддерживать в осаждённых отвагу и веру в победу.
В полутора сотнях саженей от кремля на Крымской стороне был заложен острог для защиты подступов к Синбирску. От него к граду началось строительство нескольких надолбов из крепкого дуба. Надолбы перекрывали двухсаженной стеной подступы к кремлю, по ним могли передвигаться ратные люди между острогом и главной крепостью. Острог делался по образу подобных укреплений на засечной черте, он был невелик, но крепок своим дубовым частоколом и четырьмя угловыми башнями, приспособленными для огневого боя. Здесь должны были постоянно нести службу ратные люди, и для них строились жилые избы, поварня, амбары оружейной и пороховой казны. В случае осады острог надёжно защищал Синбирск с Крымской стороны. Неприятелю, чтобы подойти к кремлю, надо было уничтожить острог и надолбы, а для этого растратить свои силы, которые он нацелил на захват главной крепости. На этом и строился расчёт русских военных строителей, который оправдал себя полностью во время первой русско-польской войны за Украину. Защищённая землей и деревом Вязьма успешно отразила осаду польских войск, вооружённых пушками и имеющих опыт взятия каменных крепостей. На волжской границе против степняков Синбирск был неприступен.
Город строили простые люди, крестьяне, взятые от сохи и оторванные от родного очага. Условия их жизни были очень тяжёлыми, работные люди жили в шалашах, ели однообразную и скудную пищу, приказчики и сотники били их палками за всякую провинность. Спасения ослабевшим и больным не было, люди умирали каждый день, и отцу Никифору вошло в тягостную привычку каждый вечер идти на кладбище, устроенное на Казанской стороне неподалёку от крепости, и совершать погребальный обряд.
В конце июля резко похолодало, пошли дожди, люди простывали, поскольку негде было высушить одежду, заболевали скоротечной горячкой, и счёт смертей уже шёл до десятка на каждый день. Из-за ненастья работы пришлось прекратить, люди сидели в шалашах, зябли и мокли, не имея возможности развести костры и согреться. Когда кто-нибудь рядом умирал, бывшие с ним рядом люди криками звали похоронщиков, нескольких отпетого поведения ярыжек во главе с Коськой Хариным, которые брали покойника и относили его на кладбище. К вечеру приходил промокший насквозь отец Никифор и отпевал всех скопом. Воевода велел никого без гроба не хоронить, но бывало и так, что подручные палача тайком покойника раздевали и бросали голяком в яму. Поп Никифор видел творимое ярыжниками окаянство, но ничего не мог с ними поделать. Только заикнулся, что скажет воеводе, как его притиснули к сосне и приставили к горлу нож.
– Никшни, поп, а то порешим, как курёнка!
Хитрово весьма беспокоило, как бы работные люди не возмутились и не устроили бунт, и он сказал об этом Кунакову.
– Не кручинься, Богдан Матвеевич, – успокоил воеводу многоопытный дьяк. – Бунтовать люди не станут. Я мужиков насквозь ведаю. Они согласны терпеть, а раз так, то скорее помрут, чем забунтуют.
Вскоре простудная болезнь начала косить и начальных людей. Одним из первых занедужил градоделец Першин. Когда начались ливневые дожди, он кинулся устраивать канавы для стока воды, чтобы не заливало ямы, выкопанные под основания башен. Пробыл два дня под дождём и слёг с великим жаром и трясучкой во всём теле. О болезни градодельца донесли Хитрово, и он срочно вызвал к себе знахаря Ерофеича, единственного на Синбирской горе лекаря. Тот явился, седой как лунь, борода во всю грудь, длинные волосы на голове подвязаны кожаным ремешком, взгляд колючий и тёмный.
– Сделай, старинушка, невозможное, но подними Прохора на ноги, – сказал воевода. – Говори, что для этого тебе надобно.
– Вели, милостивец, отпустить большую чарку вина, – сказал знахарь. – У меня было, да всё растратил.
На другой день Васятка донёс Богдану Матвеевичу, что здоровье Першина не улучшилось, винные примочки ему не помогли, градоделец впал в сильный жар, бредит и призывает к себе воеводу.
Першин лежал на лавке, укрытый овчиной, и тяжело стонал. На скамейке стояла чаша с отваром, к стене был прислонён игрушечный город. Воздух в избе был спёртый, крепко пахло вином и сыростью.
– Прохор! – сказал Хитрово. – Ты меня слышишь?
Першин открыл глаза, понемногу его взгляд стал осмысленным.
– Вот, Богдан Матвеевич, – жалко попытался улыбнуться больной. – Отхожу я, и град не успел поставить.
– Не торопись на тот свет, – сказал Хитрово. – Бог даст, поправишься.
– Видно, уж нет, – Першин скривился и закашлялся. – Град не построил, ты уж прости. А на моё место поставь Авдеева, он плотник добрый, и все мои хитрости ему ведомы.
Градоделец зашёлся приступом кашля, к нему наклонился Ерофеич и стал обтирать тряпицей мокрую бороду.
Выйдя из избы, Хитрово сказал Васятке, чтобы он позвал к Першину священника. Вечером градоделец скончался. Авдеев собственноручно сделал гроб из сосновых горбылей, на погребение пришли Хитрово, Кунаков, сотники и приказчики. Хоронили Першина возле построенного им храма.
Шёл нескончаемый дождь, заливая могилу. Землекопы торопливо забросали её землей, и Никифор, подобрав рясу, побежал к своей избе. На крыльце, прижавшись к дверям, стоял человек в церковной одежде. У его ног лежал перевязанный верёвками рогожный куль.
– Ты кто? – спросил Никифор. – Почто не заходишь?
– Жду, пока вода с меня стечёт, – ответил незнакомец. – Ты, видно, Никифор, а я – Ксенофонт. Послан из митрополии к тебе диаконом.
– Как же ты до нас в такую непогодь дошёл?
– На струге. В Казани сухо, ливень только на подходе к Синбирску начался.
– Идём в избу, – сказал Никифор. – Тебе нужно переодеться и обсохнуть.
Марфинька кормила грудью Анисима. Увидев чужого человека, она ушла за занавес, а Ксенофонт развязал куль и достал из него штаны и рубаху. Когда он переодевался, Никифор не мог надивиться: диакон имел могучую стать и был облачен мышцами, как стальным панцирем.
В избе потянуло дымком, Марфинька подожгла в печи растопку, чтобы разогреть уху. Белёсый жгут дыма пополз по потолку в волоковое оконце. Никифор выжидающе смотрел на диакона, что тот ему скажет о себе. Ксенофонт это понял и достал из своего куля грамотку.