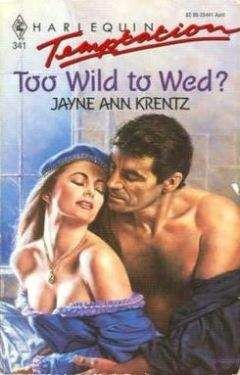Михаил Щукин - Ямщина
Навес закрыли, в нем воцарилась тень и стало чуток прохладней. На длинный дощатый стол, поставленный еще с вечера мужиками, бабы выложили хлеб и огурцы, с горой набухали в миски горячей и дымящейся саламаты.
— Пора, однако, работников звать, — Устинья Климовна окинула стол придирчивым взглядом, никакого изъяна не нашла, и соблаговолила: — Зовите…
Зинаида побежала к дальнему краю покоса, где вытянувшись гуськом друг за дружкой, равномерно покачиваясь, продвигались вперед косари. Услышали Зинаиду, оглянулись, но работу не бросили, пока не дошли до конца прокоса.
Ребятишек звать не понадобилось: увидели издали, что тятьки к стану идут, литовчонки свои побросали, наперегонки кинулись им навстречу и каждый кричал, еще издали, о том, как много и ладно он накосил.
За ложком тянулась дорога, ведущая на дальние дюжевские покосы, и вот на этой дороге зоркая Глафира разглядела сначала телегу с седоками, а после, приглядевшись, различила в ней Митеньку, о чем тут же и оповестила Устинью Климовну.
— Дак он, вроде, и не собирался, может, случилось чего? — Устинья Климовна из-под ладони старательно вглядывалась в приближающуюся телегу и, чем дольше вглядывалась, тем суровее поджимались сухие губы — в телеге, теперь уже и полуслепой мог полюбоваться, сидели Роман с Феклушей, Васька правил, а на самом задке, болтая ногами, примостился Митенька. Ой, не по душе была эта картина Устинье Климовне! Отвернулась от дороги, легким шагом прошла под навес и подала голос:
— У нас теперь как — без особого приглашенья за стол не садятся?!
Расселись. А тут и Митенька подоспел — веселый, улыбчивый, уши, пельменями торчащие, и те, кажется, светятся от довольства. А от чего оно происходит, тут особого ума не требуется, чтобы догадаться, — все на лице нарисовано…
— Здравствуйте, маменька, здравствуйте, братчики, я на подмогу к вам! — голос у Митеньки звенел, и улыбка не сходила с курнопелистого лица.
— С саламатой мы и сами управимся, без помощников, — хохотнул старший Иван и подмигнул братьям: — Так или не так?
— Так! — дружно подтвердили Павел и Федор, радуясь приезду Митеньки, которого все любили, как любят во всякой доброй семье последыша. А тот принялся рассказывать, что сегодня всех плотников сам Дюжев на два дня на покос отправил. После, говорит, наверстаете, а уж нынче езжайте, сорвите охотку. Роман тоже на дюжевский покос поехал, а вечером туда и сам Тихон Трофимыч собирался отправиться.
— Как я погляжу, у Дюжева, видно, ворота для тебя медом смазывают, — сурово оборвала его рассказ Устинья Климовна.
Митенька осекся и принялся за саламату. Больше разговоров не говорили — обедали. После саламаты разлили чай, заваренный смородиновыми листьями, и за чаем Устинья Климовна ни с того ни с сего принялась рассказывать о том, что вчера, когда она свой покос объезжала, случайно заглянула к соседям Коровиным:
— Добры хозяева, добры, все у их справно, поглядеть — душа радуется. А старшуха, Мария-то, налилась, прямо как яблоко. Кислым молоком давай угощать, с обхождением, с почетом… И на телегу подсобила забраться, когда я уезжала… Работящи они, Коровины, работящи…
Митенька поперхнулся чаем, лицо обнесло алой краской до самого кончика курносого носа. Старшие братья примолкли, слушая маменьку, сразу смекнули: неспроста она вчера к Коровиным заворачивала, это ж какой крюк надо было делать — версты три, не меньше.
Устинья Климовна, как ни в чем не бывало и ничего не замечая, свое гнула:
— Баска старшуха-то у Коровиных, баска…
Митенька снова закашлялся. Устинья Климовна посоветовала:
— Ты подуй на чай-то, подуй, чего живьем кипяток глоташь, обожгесся… Когда кислым молоком-то угощала, то и хлебца подала, добрый хлеб, добрый… «Мать, — спрашиваю, — стряпала?» — «Нет, — отвечает, — я, говорит, хлеб пеку»… Ой, совсем памяти не стало, обещала им серянок отправить, у их малые баловались, в костер серянки уронили, спалили. Митрий, допивай чай, после доскочи до Коровиных, отвези серянки, а я пойду подремлю, однако…
Она прошла в свой махонький шалашик, отдельно для нее поставленный, пошуршала там и затихла.
Все, кто за столом остался, понимающе переглянулись: не первый год вместе жили, знали, что означает поездка Устиньи Климовны к Коровиным. Означала она одно — невеста для Митеньки выбрана.
— Ну, чего скис?! — Павел, сидевший ближе всех к Митеньке, хлопнул его по плечу, — теперь тебе никакой варнак не страшен, только скомандовал и…
Договорить Павел не успел, потому как братья и снохи дружно захохотали, понимая его намек.
Семен Коровин — мужик в Огневой Заимке известный. Махонький, кривоногий, чернявый, проворный, как жук-скоробей; про таких говорят, что они с шилом в заднице родились. Невесту ему покойный родитель подыскал издалека, аж из-под Мариинска, там и свадьбу играли. И вот возвращаются молодые в Огневу Заимку, народ к коровинскому дому сбежался, любопытство разрывает — какая она, эта краля, за которой столько верст киселя хлебали? Первым из саней, как живчик, Семен выкатился, а следом за ним вышагнула и выпрямилась — любопытный народ только и смог, что ахнуть, — невеста. Семен, даже если на цыпочках прискакивал, все равно ей до плеча не доставал. Но и это не все. При огромном росте и могучей дородности оказалась она еще и красоты диковинной, будто сошла с картинки: карие глазищи с поволокой, пушистые брови над ними дугами изогнуты, на круглых щеках румянец играет и ямочки от улыбки. Губы спелые, алые…
Ахнув, народ долго молчал — разглядывали. Наконец, какой-то шутник опамятовался:
— Семен, а целоваться как будешь, тебе ить не достать?
— Тебе не достать, — сразу нашелся Семен, — а мне — за милу душу. Настя, цалуй меня!
Красавица царственно согнулась широким станом, словно в поклоне, притянула к себе низенькое кривоногое сокровище и расцеловала.
Народ во второй раз ахнул.
А Семен, губы облизывая, будто меду поел, горделиво повернулся и сообщил шутнику:
— Надо будет, я и табуретку поставлю!
Зажили молодые душа в душу. Хозяйство у Коровиных незавидное было, хлипенькое, но с приходом в дом Насти оно поперло, как на дрожжах. Через два года новый дом поставили, что ни год — в конюшне конь новый. Коровы у них телились сразу двойнями, свиньи поросились дюжинами, а сама Настя, не зная простоя, исправно увеличивала коровинское семейство в таком порядке: парень, девка, парень, девка… Парни были точной копией отца — маленькие, кривоногие и чернявые, а девки — в мать: высокие, дородные, кровь с молоком.
Хозяином в доме был Семен, любое слово его — закон. И не моги нарушить. Лет пять назад, на Троицу, задрался он, пьяненький, с Егором Христофоровым; слово за слово — и сцепились.