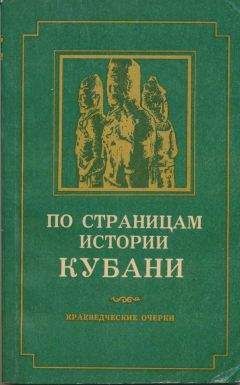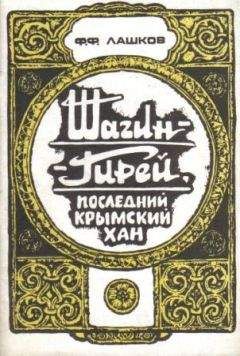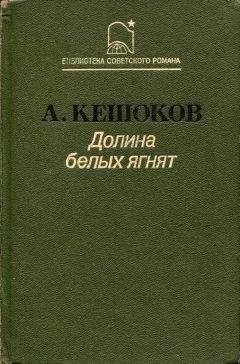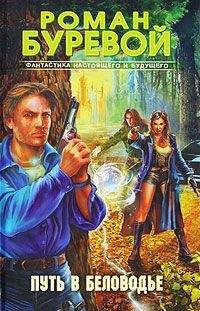М. Эльберд - Страшен путь на Ошхамахо
Мальчика это не удивило. Он сказал, что если отходить подальше от дома, то скоро он будет умещаться на ладони вытянутой к нему руки, затем на ногте большого пальца, потом станет меньше самого маленького муравьишки. Ну, а сейчас мы так далеко отъехали от берега, что сама земля стала такой крошечной, что разглядеть ее невозможно.
Землю — и это была чужая, не наша земля — мы увидели к вечеру. Она медленно росла на наших глазах. Сначала мы видели неровную скалистую кромку берега, позже стала различимой белая россыпь домиков. Солнце уже окунуло закраину своего диска и морскую воду (я невольно ожидал, что вода закипит и вспенится), когда борт нашего судна коснулся причала.
Все, кто плыл на корабле, свершили вечерний намаз, воздавая хвалы Милостивому и Всемогущему за благополучное путешествие, и заторопились к сходням.
Вот она, чужбина…
Так, наверное, чувствует себя олень, спасшийся от погони. Быстрые ноги принесли его в неведомые места, и вот он настороженно осматривается: нет ли здесь других охотников пли хищных зверей, и если его жизни сейчас ничто не угрожает, то надо еще найти подходящее пастбище. И неизвестно, богатым оно будет или скудным и будет ли вообще? До сих пор я старался не думать о том, как стану жить, чем заниматься в изгнании, что смогу сделать для Кубати. Теперь пришло время крепко обо всем этом подумать.
В день, когда я ступил на землю Крыма, я вдруг почувствовал себя зелененьким юнцом, которому не хватало опыта и мудрости зрелых мужей. А проще говоря, мной овладела робость и неуверенность, как у той собаки, что случайно оказалась в чужом дворе.
Надвигались сумерки, и я, не обнаруживая перед Кубати своего беспокойства, мучительно искал выход из положения. Но ни одна здравая мысль не забредала в мою голову.
У извилистой, поднимающейся к верхней части города, дороги протекал арык с чистой водой. Глухие стены глинобитных и каменных строений выглядели равнодушными и негостеприимными. Я остановился, чтобы напоить своего доброго коня Налькута.
Из глубокой задумчивости меня вывели чьи-то гортанные голоса. В трех шагах от меня стояли два татарина. Один из них, красивый молодой мужчина моих примерно лет (я имею в виду еще «те» мои годы), одетый в дорогой парчовый халат, держался с гордым достоинством. Второй, одетый гораздо проще и беднее, был, вероятно, его слугой.
— Мир тебе, чужеземец! — сказал по-кабардински татарин, что был победнее. — Мой хозяин, знатный паша из свиты самого хана, да пребудет над нашим ослепительным владыкой благословение аллаха, приветствует тебя.
— Уалейкум салам! — ответил я, глядя на пашу. — Хоть я и не очень свободно говорю по-татарски, но могу обходиться без толмача.
— Тем лучше, — паша позволил себе слегка улыбнуться. — Судя по всему, ты не из простого рода, мужественный черкес.
— Твоя проницательность, паша, тебя не обманывает. Мой род немножечко известен в Кабарде, и в Большой и в Малой, и потому беседа с человеком по имени Болет тебя не слишком сильно унизит.
— А меня зовут Аслан, — представился молодой паша. Изящные черные его глаза открылись пошире. — Я вижу, ты не расположен говорить о себе больше, чем сказал. Любите вы, черкесы, хранить о себе всякие тайны, особенно после очередной ссоры, которая почти всегда предшествует вашей поездке в Крым. Я угадал?
«Вот шайтан!» — подумал я и не смог удержаться от смеха.
— Если бы я тотчас распрощался с тобой и немедленно, никого больше не встречая, погрузился на корабль и уехал на родину, то всю жизнь считал бы, что татарские паши — это обладатели быстрого и острого, как наконечник стрелы, ума.
Паша рассмеялся тоже:
— Нет-нет, среди нас хватает и тех, кого иначе, как «ослиная башка», не назовешь. Ты мне скажи, твой конь не продается? Я ведь за тем и вышел из ворот этого дома, принадлежащего моей вдовой и бездетной тетке.
За высокой каменной стеной виднелась пологая односкатная крыша из красной черепицы. Лицевой частью дом был обращен к морю, а торцом выходил на проезжую дорогу. Боковая часть галереи, поднятой на два человеческих роста над землей, также смотрела на дорогу. Вот, наверное, оттуда и заприметил паша моего Налькута.
Я постарался ответить ему как можно мягче:
— Разве можно продавать друга?
— Тогда, может, сыграем в кости на твоего хоару — кажется, так называется эта порода?
«Вот тебе и раз! А что скажет пророк Магомет, запретивший азартные игры?» Вслух же я сказал другое:
— Давай лучше сыграем на мое ружье. У меня хорошая эржиба.
Паша поморщился:
— В Кабарде красиво отделывают ружья, но ствольная трубка, наверное, турецкая?
— Нет. Из Испании.
— Пошли в дом. Темно становится. — Аслан дотронулся до моего плеча. — Если тебя не ждут друзья за первым же поворотом дороги, то прошу остановиться на ночлег у меня…
— За первым поворотом нас с братишкой не ждут…
— Тогда идем! — тоном, не терпящим возражений, скомандовал паша. — Халелий! Позаботься о лошади.
Итак, в первый же день приезда нам повезло. Иначе не знаю, какими глазами я смотрел бы на моего мальчугана.
Скоро мы сидели на подушках, разбросанных по мягкому ковру в хорошо освещенном гостевом зале. В огромном белокаменном камине полыхал жаркий огонь. Халелий расставил на ковре, между мной и Асланом, серебряные блюда со свежими фруктами и очищенными от скорлупы орехами фундук, орехами грецкими и миндалем. На отдельном блюде дымился рис с изюмом, курагой, черносливом. В блестящих тонкогорлых кувшинах — янтарный шербет и рубиновый нарденк [58].
Неплохо был устроен и Налькут. Он сейчас стоял в уютной конюшне и угощался овсом вперемешку с берсимом — высушенным александрийским клевером.
Аслан-паша по достоинству оценил мою эржибу, инкрустированную золотом по стали и перламутром по красному дереву приклада. К тому же сталь была, как я уже говорил, из Испании: ствол сработали знаменитые мастера из города Толедо.
Очень понравилось паше мое ружье. Он забыл даже о Налькуте. И пот тут на ковер увесисто шлепнулся пузатенький кошелек со звонким металлом, который в Крыму пользовался гораздо большим почтением, чем в Кабарде, ценившей хорошо заточенную сталь неизмеримо выше. Аслан развязал шелковый шнурок и высыпал передо мной горсть серебряных монет.
— Ровно сотня пиастров! — объявил он. — Здесь почти все турецкие, но вот эти, самые крупные — русские ефимки[59]. Каждый из них стоит четыре пиастра. Согласен на такой заклад? Смотри, я не жаден, как многие мои сородичи.
— Ну и я не жаден.
Аслан-паша протянул мне пару костяных кубиков, в каждую грань которых были вделаны мелкие рубиновые зернышки числом от одного до шести.