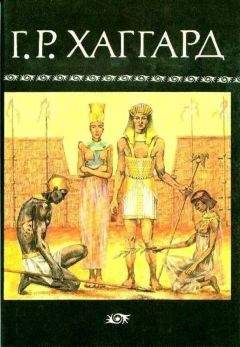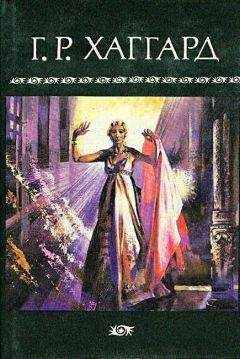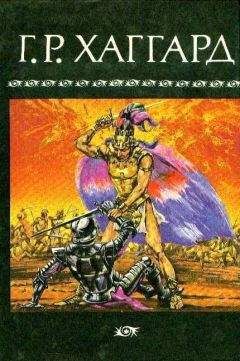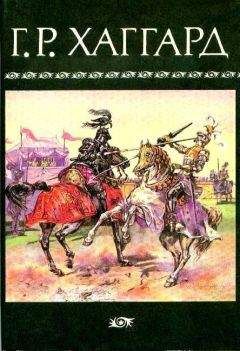Генри Райдер Хаггард - Собрание сочинений в 10 томах. Том 4
Тут епископ спросил, были ли эти женщины подвергнуты пытке, и, получив отрицательный ответ, выразил по этому поводу сожаление: ведьмы, сказал он, явно очень упорные, и, подвергнув их некому дисциплинарному воздействию, можно было бы избежать лишней возни. Спросил он также, были ли обнаружены у них на теле колдовские знаки, то есть места, где дьявол поставил свою печать и где, как известно, избранники его не ощущают боли. Он даже поднял вопрос о том, чтобы судебное разбирательство было отложено, пока ведьм не исколют булавками, чтобы найти колдовские знаки, но в конце концов отказался от своего предложения, дабы не терять времени.
Последний вопрос был поднят хмурым приором, который высказал мнение, что ребенка тоже следует обвинить, ибо и он ведь, по-видимому, общался с дьяволом: говорят же, что от смерти его спас дьявол, который взял его на руки и передал монахине Бриджет, — это к тому же единственное свидетельство против означенной Бриджет. Если она виновна, то как может быть невинным ребенок? Не следует ли их сжечь вместе, ибо очевидно же, что младенец, которого нянчил сам дух зла, проклят богом.
Законник-епископ признал этот довод интересным, но в конце концов решил, что безопаснее будет пренебречь им, приняв во внимание младенческий возраст преступника. Он добавил, что значения это не имеет, ибо можно не сомневаться, что гнусный враг рода человеческого вскоре сам предъявит права на свое добро.
Под конец, перед вызовом свидетелей, Эмлин потребовала адвоката, который бы взял на себя их защиту, но епископ, усмехнувшись, ответил, что в этом нет никакой нужды, ибо у них и так имеется лучший из адвокатов — сам сатана.
— Верно, милорд, — сказала, подняв глаза, Сайсели, — у нас лучший из адвокатов; только вы его неправильно назвали. Бог, защитник невинных, — наш адвокат, и на него я полагаюсь.
— Не кощунствуй, колдунья! — закричал старик; и начался допрос свидетелей.
Передавать его во всех подробностях не стоит, да это и заняло бы слишком много времени — он тянулся несколько часов. Прежде всего обсуждались молодые годы Эмлин и очень подчеркивалось, что мать ее была цыганка, покончившая самоубийством, а отец осужден инквизицией после того, как публично сожгли написанный им еретический труд. Затем давал показания сам аббат; хотя таким образом он оказался одновременно и судьей и главным свидетелем, никому это не показалось странным, ведь речь шла об обвинении в колдовстве. Он сообщил об исступленных речах Сайсели после сожжения Крануэл Тауэрса, добавив, что она и ее сообщница Эмлин спаслись от пожара явно благодаря волшебству, иначе они никак не могли бы остаться в живых. Он рассказал о том, как Эмлин угрожала ему, после того как поглядела в сосуд с водой, и обо всех ужасных делах, которые совершались в Блосхолме и были несомненно вызваны этими ведьмами. В этом он был прав, хотя и не знал, как все это происходило на самом деле. Он поведал о гибели повивальной бабки, о том, какой у нее был вид после смерти — при этом все присутствующие содрогнулись от ужаса, — и, наконец, о появлении призрака сэра Джона Фотрела, который общался с обвиняемыми в часовне обители, а затем бесследно исчез.
Когда он кончил свою речь, Эмлин попросила разрешения в свою очередь задать ему вопросы, но в этом ей было отказано на том основании, что лица, обвиненные в таких ужасных преступлениях, не имеют права на перекрестный допрос.
После этого заседание было прервано на обед. Обвиняемым тоже принесли пищу, но они вынуждены были есть там, где стояли. А хуже всего было то, что Сайсели пришлось и ребенка кормить при всей собравшейся толпе, которая глазела на нее, грубо издевалась и злилась, когда Эмлин и несколько монахинь окружили и заслонили Сайсели как бы живой ширмой.
Судьи возвратились, и снова начались показания свидетелей. Хотя большая часть этих показаний была совершенно несущественна, их набралось столько, что под конец Старый епископ устал и заявил, что больше он ничего слышать не хочет. Тут судьи принялись задавать сперва Сайсели, а затем Эмлин вопросы такого гнусного рода, что, с негодованием отрицательно ответив на первые из них, они потом уже просто замолчали, отказываясь что бы то ни было отвечать, — явное доказательство их вины, как с торжеством отметил хмурый приор. Наконец запас этих омерзительных вопросов иссяк, и Сайсели задали последний — хочет ли она что-нибудь сказать в свою защиту.
— Да, я имею что сказать, — ответила она, — но я устала и вынуждена говорить кратко. Я не ведьма и не понимаю, в чем меня обвиняют. Блосхолмский аббат, выступающий в качестве судьи, мой злейший враг. Он притязал на земли моего отца — теперь он наверно захватил их — и зверски умертвил у Королевского кургана в лесу упомянутого отца моего, когда тот ехал в Лондон, чтобы подать на него жалобу и раскрыть его измену перед его милостью королем и королевским советом…
— Лжешь, ведьма! — крикнул аббат, но Сайсели, не обратив на это внимания, продолжала:
— Потом он и его вооруженные наемники напали на дом моего мужа, сэра Кристофера Харфлита, и сожгли его, умертвив или попытавшись умертвить — я не знаю точно его участи, — означенного супруга моего, который так и пропал без вести. Потом он заточил меня и мою служанку Эмлин Стоуэр в этой обители и пытался принудить меня подписать бумаги, по которым к нему перешло бы мое и моего сына имущество. Я отказалась пойти на это, и именно потому он предал меня суду: говорят, что у осужденных за колдовство отнимают все их достояние, а завладевают им те, у кого хватит силы его удержать. Заявляю, наконец, что не признаю власти этого трибунала, и обращаюсь с жалобой к королю, который рано или поздно услышит мой вопль и отомстит за нанесенные мне обиды, а может быть и за мою смерть, тем, кто в них повинен. Услышьте эти слова мои, добрые люди! Я обращаюсь к королю и ему одному, после бога, вверяю свое дело, а если мне суждено погибнуть, то и опекунство над моим осиротевшим сыном, которого аббат тоже пытался убить, подослав свою наймитку, гнусную тварь, — да настигнет ее суд божий, как настигнет он и вас, убийцы ни в чем не повинных людей!
Так говорила Сайсели. И, кончив говорить, она, измученная усталостью и горем, упала на пол — ибо в течение всех этих долгих часов ей приходилось стоять на ногах, — да так и осталась лежать с ребенком на руках; жалостное это было зрелище, и тронуло оно даже суеверные души собравшихся здесь людей.
Однако ее слова о том, что она обращается с жалобой к королю, видимо, испугали злобного Старого епископа. Он повернулся к аббату и затеял с ним какой-то спор. Сайсели прислушалась и уловила кое-что из его речей: