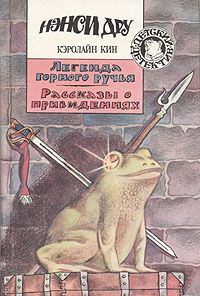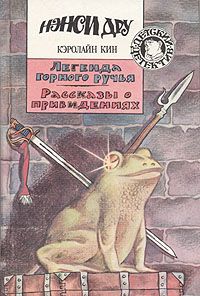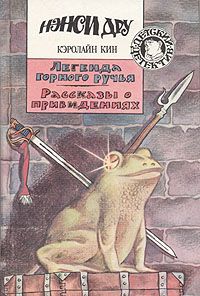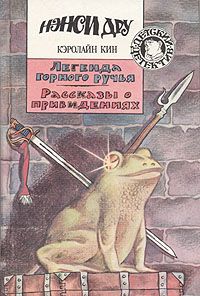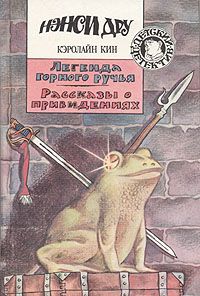Николай Зарубин - Надсада
До беловского зимовья было не более двух километров — значит, заготовки продвигаются быстрее, чем Степан думал. Так к середине лета или чуть позже доберутся и до его участка, и тогда — прощай, тайга. Не ходить ему более шишковать в места, смолоду излюбленные.
Избушка была еще ладная, вокруг все приспособления для обработки шишки: мельница, да не одна, сайбы, площадка для откидывания ореха. Здесь же небольшой амбар.
Развели костерок. Пили чай, ели сало, отваренное мясо.
— Ну а после приходилось ли тебе встречаться с… девицей? — спросил не без улыбки Степан.
— Н-нет, — покраснел Миша. — Зачем? Я ее вычеркнул из своей жизни.
— И — правильно, сынок. Ежели не складыватся с самого начала, то и нечего огород городить. Хотя быват и наоборот. У меня с бабкой моей Татьяной сразу сложилось, а вот прожили мы чужими друг дружке. У брата моего Данилы не сложилось — война помешала. Нашел он свою зазнобу через тридцать с лишком лет, теперь живут — можно только позавидовать. Твое еще к тебе придет.
— А я и не печалюсь. Поначалу, правда, мучился. Теперь — нет. Теперь я делом хочу заниматься, книгу хочу написать о наших краях, о наших лесах, о наших людях, о нашей удивительной истории.
— И — напишешь. Нутро, чую, у тебя здоровое, правильное. Не сойдешь со своей дороги. Носы-то еще всем утрешь. И девице той…
— Я, Степан Афанасьевич, без обиды живу на свете. Никого не осуждаю: если она не захотела со мной быть, то, значит, не любила. Без любви же она мне не нужна. Так что и жалеть не о чем.
— Добро, — произнес Степан свое излюбленное слово. И к чему произнес — о том не сказал бы и он сам.
Вернулись в поселок как раз к вечернему автобусу. Степан дождался, пока машина отъедет, помахал рукой Мише и побрел домой.
Грусть — легкая и светлая — овладела его сердцем. С отчуждением глядел на постройки по обе стороны улицы, по которой хаживал много лет, молча кивал встречному поселковому люду, думал о своем.
Возле дома стояли «жигули», значит, дочь приехала. Училась она в ординатуре, практику проходила в райцентровской больнице, внук Ваня находился у деда с бабкой в Ануфриеве.
— Вот и деда пришел. Ванечка, вот твой деда…
Ребенок махал ручками, улыбался, подпрыгивал на коленках матери.
— Пришел-пришел, — недовольно ворчала Татьяна. — С уполномоченным по тайге шастал.
— Каким уполномоченным? Сейчас нет никаких уполномоченных, — откликнулась Люба. — Папа, что еще за уполномоченный?
— Да это я так матери сказал, чтоб не приставала.
— Вот, старый, че делат: обманывать меня взялся. Привел в дом, за стол усадил, меня заставил в кути топтаться, ночевать оставил, а утрясь — уметелили оба в тайгу. Ты, доченька, разберись-ка с отцом, че-то, чую, темнит наш дедуля…
— Аче темнить: корреспондент газеты приезжал, антиресуется, как ведутся заготовки и сколь выполосовали кедрача.
— И что же он напишет?
— Че есть, то и напишет.
— Так, папа, ты же против своего зятя выступаешь?
— А ты, дочка, хоть понимать, че он делат с тайгой? Он же разбойник с большой дороги. Я поездил с мужиками в лесосеку, поглядел, че творится… Даже в войну и после нее при заготовках кедровник обходили стороной, а этот все подряд пластат. К моей таежке уже подходят. Ежели счас не остановить, к осени подойдут к зимовью. Ты ж не раз была со мной на участке: вот и представь. И, ежели я буду молчать, он тут все изничтожит.
— Вот паразит старый… Ну и па-ра-зи-ит… Ох-хо-хо-хо-хо-о-о… Люшеньки…
— Перестань, мама, ты не понимаешь, что говоришь. Меру тоже надо знать, — остановила Татьяну дочь.
«Ага, — подумал Степан. — Доченька-то не потеряла разум. Не все, знать, в тебе перевернулось. Добро…»
Прошло дней десять, и в дом Беловых буквально влетел зять Курицин. Подступил с перекошенной от злобы физиономией, водя перед лицом Степана зажатой в руке газетой:
— Ты че это, батя, делаешь? Ты кого вздумал топить? Родного зятя — мужа твоей дочери и отца твоего внука? Да я ж тебя… Я ж…
— Ты мне, фронтовику, угрожать вздумал?.. — в свою очередь медленно пошел на зятя Белов. — Да я тебя отстрелю, как бешеную собаку…
Глаза его заблестели той бесшабашной отвагой, какой сверкали в давние годы молодости.
— Даче ж это деится!.. — всплескивала руками ставшая промеж них Татьяна. — Вы че эт удумали, ошалелые?
Толкнула в грудь зятя, и стоявший в напряженной позе Виктор пошатнулся, едва удержавшись на ногах.
— И ты, тещенька, туда же? — взвизгнул Курицин. — Вот Бог послал родственничков…
Крикнул находящейся здесь же супруге, которая пока что молча наблюдала за разыгравшейся перед нею сценой:
— Собирайся! Ноги здесь нашей больше не будет!..
— Я у себя дома, а ты — иди, — спокойно, с холодной усмешкой отозвалась Люба. — «Жигули» только не трогай — своими ногами иди. Отец деньги на машину, между прочим, тяжелым трудом заработал в той тайге, которую ты сейчас уничтожаешь.
Зять хлопнул дверью и вылетел на улицу. Однако тут же вернулся, крикнул сорвавшимся голосом:
— Меня из-за вас на бюро райкома вызывают!..
— Иди-иди… — замахала на него руками Татьяна. — Старик слов на ветер не бросат, в сам дели пристрелит…
В газете, которой махал Курицин, была напечатана статья под названием: «Народное достояние — под угрозой». Говорилось же в ней вот что:
«Понятна боль старейшего жителя поселка Ануфриево, Героя Советского Союза, пенсионера республиканского значения Степана Афанасьевича Белова. Смолоду он влюбился в удивительные присаянские места, затем бился с фашистами за эту благодатную Сибирскую землю, работал после войны возчиком на леддорогах, потом лесорубом и последние двадцать лет — в кузнице леспромхоза. А как только выдавались свободные деньки, уходил к себе в именную таежку, где много лет, из года в год заготавливал кедровую шишку. И вот сейчас эти уникальные кедровые леса уничтожаются лесозаготовками. Уничтожаются варварски, без соблюдения правил лесозаготовок — только бы побольше древесины дать сверх плана. Зачем, во имя чего? — непонятно. И, как говорит Белов, даже в войну и после нее кедровые леса при заготовках обходили стороной, потому что понимали — кедр питает в тайге все живое, а ценность кедрового дерева многогранна и воистину невосполнима. Это наше общее национальное достояние, и сегодня оно под угрозой полного уничтожения».
Под статьей стояла подпись автора: М. Светлый.
— Кто этот Светлый? — спрашивала Люба у отца.
— Да так, мужчина лет сорока, — схитрил Степан.
— Странно…
— Че странного-то? — будто не понял.