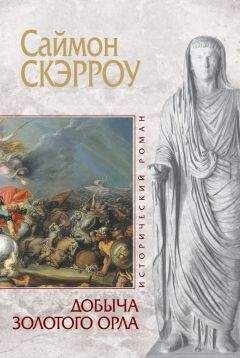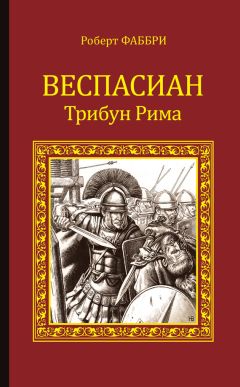Татьяна Смирнова - Тень Орла
Когда хоронили прадеда, отец рассказывал, жрецы вскрыли ему живот, вычистили и наполнили шафраном, толченым ладаном, семенем сельдерея и аниса. Потом тело покрыли воском и чуть ли не неделю таскали по всем имениям.
С отцом обошлось.
Она сама обмыла его теплой чистой водой и одела в собственноручно сшитые одежды из чистого льна. Материю рвала, а не резала, узелков не делала.
Все напрасно!
Пришла младшая сестра, Монима, вместе с толпой родственников. Вмиг углядела все: и руки, сложенные крестом, и чашу с освященной водой, и миску с кашей. Покричать она всегда любила, но тут превзошла себя. Самыми мягкими из ее высказываний были: непочтение родича и презрение к обычаям, а также, что скажут соседи и как ей, Мониме, смотреть им в глаза после того, как старшая сестра опозорила весь дом, весь род и ее лично на всю Акру.
По мнению Франгиз, позорить Мониму было все равно, что солить море. Она и сама с этим отлично справлялась. Девятнадцать лет – не замужем и не жрица. Зато любовных историй больше, чем белых мух по зиме. Но ни один мужчина так и не взял ее честно, по договору.
В доме отца Монима сразу расположилась как хозяйка, принялась писать письма и рассылать их в имения, винокурни и эргастерии, скрепляя их кольцом с печатью, которое после смерти отца мог взять только дядя. Или муж Франгиз. Но один был по торговым делам в Синопе, а другой томился в заточении. И негодница воспользовалась этим сполна.
Четыре рабыни, шипя и переругиваясь, срезали с покойника погребальные покровы. Они обрядили его в богатое платье с широкой вышивкой золотом и самоцветными камнями, надели браслеты и кольца, в уши вставили серьги, на лоб надвинули золотой обруч так, что у покойника открылись глаза…
На самом деле, если уж Монима взялась так рьяно придерживаться старинных обычаев, так ей следовало все имущество покойного поделить на три части: треть оставить семье, треть – на погребение, а еще треть на поминальную трапезу для всех друзей, слуг, воинов и просто заглянувших на тризну отдать долг памяти. Но едва Франгиз намекнула на это сестре, как услышала в свой адрес такую отборную брань, что даже рабыни зажали уши.
Сейчас процессия медленно двигалась к скале молчания. Ее сопровождали вой наемных плакальщиц, грохот, отпугивающий демонов, и жалобное мычание коров, которые не понимали, зачем и куда их гонят по такой жаре, да еще в гору.
Франгиз было жалко коров. Их, по письменному требованию Монимы, привели из деревни к воротам две девушки лет по тринадцать, босые, со спутанными волосами. Обе пока не замужем. Франгиз боялась подумать, что это могло значить, и от всей души надеялась, что сестрица ограничится коровами.
Монима шла впереди, с подобающим выражением скорби на красивом лице темного оливкового оттенка. Отец никогда не делал между ними разницы, хотя сестра была дочерью рабыни-нубийки. Об этой особенности Монимы все давно и благополучно забыли бы, несмотря на цвет ее кожи… если б она сама по двенадцать раз на дню не напоминала всем и каждому, что она – госпожа.
Погребальные пещеры располагались низко. Их входы, заваленные камнями, были густо окрашены белым, чтобы предупредить путников об опасности оскверниться, прикоснувшись к жилищу мертвых.
«Почему смерть – скверна? – думала Франгиз, приближаясь к родовой усыпальнице. – Уж скорее – страх. Темный страх перед неизвестностью… Но ведь жил же тот, кто сказал: «Не бойтесь, ибо смерти нет!» И уже полтысячи лет можно не бояться. Зачем же эти белые двери?!»
Из камней сложили четырехугольный «корабль», застелили его парчой и, набросав как попало, но щедрой горстью, монет и золотых украшений, отошли к повозке. Ее, согласно обычаям, аккуратно разбили. Отца переложили на «корабль». Заголосили плакальщицы, разрывая на себе одежды. Мужчины загремели оружием.
Вывели коров.
Франгиз отвернулась. Ей случалось убивать. На охоте, из лука. Получалось это у нее хорошо, но никогда не нравилось. А сейчас было и вовсе противно.
Жалобное мычание оборвалось. Франгиз осторожно открыла глаза, чтобы убедиться: две бурые груды лежали там, где положено – у ног мертвеца. Теперь был черед коня, тащившего повозку. Его крепко взял под уздцы сотник личной стражи господина судьи, плечистый мужчина в летах. Конь нервничал, переступая копытами. Крики плакальщиц раздражали его, а запах свежей коровьей крови пугал. Хамат – Франгиз наконец вспомнила имя сотника – нежно погладил ноздри коня и стал что-то тихо, ласково говорить ему и дуть на веки… Когда появился кинжал – никто не заметил.
Франгиз про себя тихо порадовалась за двух больших злобных псов, принадлежавших отцу. Раб, смотревший за ними, накануне забыл запереть ворота, и где сейчас носило рыжих демонов – неизвестно. Они, конечно, прибегут домой, но это будет нескоро. Так что псам повезло.
Неожиданно ритм стука мечей в щиты изменился, став быстрее, и вой плакальщиц взлетел на целую октаву. С изумлением и ужасом Франгиз услышала и узнала слова древнего стиха:
Выходишь ты из тесных стен
В мир бесконечных перемен.
Там даже вечности самой
Не существует – лишь покой.
Непостоянна, как волна,
Минутой кажется она…
Хамат шагнул к одной из девушек, пригнавших коров, и, заломив ей руку за спину, заставил опуститься на колени. Другая, смекнув, в чем дело, метнулась было бежать, но ее перехватили. Монима сама взяла нож из руки сотника.
Франгиз словно вынесло вперед.
– Ты что, белены объелась?
Перехватив руку сестры, ту, с ножом, она сжала ее так, что Монима вскрикнула. Девочка, ослабев от страха, осела на камни, глядя прямо перед собой огромными неподвижными глазами.
– Ты недостаточно опозорила семью, – прошипела Монима, – тебе нужно было прервать прощальную церемонию?
Девчонка, наконец, вышла из ступора и тонко заорала:
– Я недостойна сопровождать господина! Я не сохранила себя! Уже две луны, как я не девственна. У меня есть мужчина, кузнец Рахим. Он обещал взять меня в свой дом этой осенью.
– Я тоже не девственна, – поддержала подругу вторая, – клянусь богами!
Монима на мгновение растерялась.
– Они обе лгут, госпожа, – одна из плакальщиц подвинулась ближе к той, за которой чуяла власть, – прикажи их проверить. Бочка с вином у нас есть.
– Бочка с вином?
– Госпожа, их надо раздеть донага и заставить присесть на корточки над открытой бочкой. Если запах проникнет в них, значит они и впрямь не девственны.
– И что, потом их нюхать, что ли, немытых? – обалдел Хамат.
– А то ты раньше никогда этого не делал? – сощурилась старуха.
– Я вообще не касаюсь женщин, – отрезал Хамат и брезгливо поморщился, – я признаю лишь любовь меж равными, а равным воину может быть только другой воин.